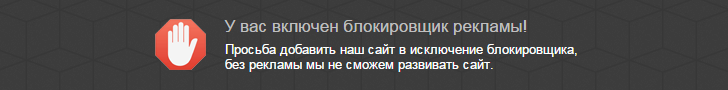23
По дороге в Киров он открыл для себя странную зависимость вещей в мире и теперь грустно посмеивался над своим открытием. Получалось так, что все важные поступки, все замечательные решения приходилось вершить как бы за свой счет.
Чтобы наконец стать независимым от отца и расширить эту злополучную квартиру, нынешним летом ему пришлось вступить в бригаду шабашников, которая ежегодно собиралась в университете и под видом стройотряда ездила на заработки. Вначале натерпелся всякого дома. Ирма о шабашке и слышать не хотела, не понимала, считая это за глупость и какое‑то ребячество. Зачем все это нужно, когда денег можно взять или, на худой конец, занять у отца: и он даст, поскольку все понимает и деньги есть. Не для роскоши — от нужды! Сергей в ответ, как всегда, говорил жене что‑то невразумительное и потом долго слушал упреки: что в нем засел и сидит комплекс, от которого давно бы надо избавиться, что у него, современного человека, мозги, как у замшелого кержака (и чему же тогда он может научить студентов?), что жизнь надо воспринимать такой, какая она есть, ибо какой ей быть, диктует время, и что он, Сергей, играет роль эдакого ученого — бессребреника, несчастного рядового кандидата при блестящей перспективе. А он слушал и с мужицким упрямством думал о своем. Думал, что в тридцать‑то три года уже нехорошо сидеть на отцовской шее, уже стыдно. Ведь не убогий же — руки‑ноги есть — и не блаженный, чтобы родители до смерти кормили. В деревне если и не засмеяли бы, то уж никак бы не считали за серьезного мужика. Так себе, пришей кобыле хвост.
И, увлеченный этими думами, он выложил их Ирме; ее же словно ошпарило.
— Ах, что обо мне подумают!.. Ты пойми, в деревне сейчас остались одни кретины. Идет естественный отбор, все мыслящие люди тянутся в культурные центры. Город выпил интеллект из деревни, высосал, как вампир. А тебе важно, что подумают эти бескровные существа?
— И ты всегда так думала? — спросил Сергей.
— При чем здесь я? Сейчас все так думают и все это понимают. Только вслух не говорят… Ты посмотри на свою эту Стремянку. Сколько там нормальных? Они даже не умеют распорядиться своими деньгами, что всегда умел крестьянин. Это национальное бедствие, когда люди не знают, как управиться с материальными ценностями, не говоря уж о культурных.
Сергей взорвался и, как всегда в таких случаях, понес не то, что думал, говорил не то, что хотел: мелочи какие‑то, пустяки.
— А мне бардак этот надоел! Да, надоел! — закричал он, пиная брошенные на полу вещи. — Как ни придешь — грязюка! Бедлам какой‑то!.. В Стремянке хоть живут чисто, в избу зайдешь — посмотреть любо‑дорого. А у нас? Другой раз и человека‑то пригласить стыдно! Ко мне студенты приходят, понимаешь ты — нет? Стыдно!
— Ну вот, — отмахнулась Ирма. — Все свалил на быт. Я тебе про Фому, ты про Ерему…
Вместо того чтобы поехать к отцу, Сергей отправился на шабашку, зарабатывать себе на независимость.
Ехать в российскую Стремянку Сергей решил еще в августе, когда ездил в чермет разыскивать Иону. Сначала это пришло как долг перед отцом — надо же когда‑то возвращать долги? — но однажды неожиданно подумал, вернее, попытался ответить на свой вопрос: почему отца тянет туда? Почему всегда тянуло мать, которая тоже собиралась съездить и не успела — умерла. Они ведь и родились‑то в Сибири, вятской Стремянки в глаза не видывали, казалось, и связь всякая утеряна. Родня повымирала, а что осталось — так, седьмая вода на киселе, даже писем не писали. Почему тянуло многих из Сибири? Помнится, в детстве только и слышно было — эх, поехать бы в Россию, в Вятку. Хорошо‑то как там, господи! И речка Пижма там светлая, и на полянах ромашки растут, а в ельниках — кукушкины слезки… В детском сознании от всех этих разговоров возникал образ России, похожий на сказочную страну, какую‑то землю обетованную. Казалось, приедешь туда, и исчезнет реальность, и жизнь начнется совершенно другая, светлая, как речка с цветочным названием. Но со временем образ этот растворился, даже забылся на долгое время. И вот возник, приковал внимание настолько, что детством повеяло, сказкой.
Но почему же его‑то, Сергея, не тянет туда? Если память о своей прародине, о земле, где схоронены предки, передается в генах, и тоска по ней передается, и жажда возвращения (откуда же иначе бы взялась отцова тяга?), то почему же ему‑то не передалась? Сергей прислушивался к себе, представлял речку Пижму и ничего не ощущал. Где уж там думать о российской Стремянке, когда в сибирскую не тянет, туда, где родился, где пуп резали. А ведь случалось, тосковал по родным местам, особенно в студенчестве. Но как‑то незаметно прошло время, и перестало тянуть. Хуже того, после отцовских писем и просьб заглянуть в гости возникало подспудное ощущение неприятной обязанности, Такое, как в детстве, когда рано утром будили на покос, и каким бы ни был сладким сон, все равно приходилось вставать. Но можно и помедлить минуту‑другую, и он медлил…
В сентябре, пока Сергей был в колхозе, Ирма должна была вернуться, но не вернулась из Новосибирска. Написала короткое письмо с просьбой, чтобы он подал документы на размен квартиры. Вначале он решил, что Ирма ошиблась, написав «размен» вместо «обмена», однако вдумался в текст и понял, что написано тут не о квартире — о всех их отношениях. Просто так уж устроено, что квартира разменивается в самую последнюю очередь, когда менять больше нечего.
«Неужто ничего не осталось? — думал он, прислушиваясь к себе и осматривая стены. — Нет! Осталось! Вика. Вика, доченька моя…»
Не умывшись, не сняв пропотевшей на колхозных токах одежды, он пошел в гараж, посадил Джима в машину и вырулил на улицу. Проезжая мимо своего дома, увидел свет в окне — забыл выключить, но останавливаться уже не хотел…
В этот, последний приезд в профессорский дом он лишь вечером, как‑то случайно обратил внимание на обстановку — все те же полотна на стенах, бронза, старинная мебель, — и то увидел ее словно краем глаза, мимоходом. Вещи промелькнули, будто смутное воспоминание, будто лицо старого знакомого в толпе: ага, вы еще живы… А сама атмосфера в доме вновь чем‑то напомнила смотрины. Опять было много народа, какие‑то разговоры, беседы — о чем угодно, только не о том, что наверняка всех беспокоило. Здесь знали об их разрыве, похоже, много говорили об этом, пока не было Сергея, и вынесли решение, которое он получил в письме. Видно, поэтому и не замечали зятя, поскольку на «смотринах» он еще не был таковым, а сейчас уже не был. Вика целый день не слезала с рук, шептала на ухо стишки, рассказывала, как они с мамой катались на лодке, ходили в зоопарк, смеялась весело, но черные ее глазки оставались настороженными и даже печальными.
— Давай уедем к дедушке в деревню, — заговорщицки шептал Сергей. — Поселимся там в своих комнатах и будем жить. А летом поедем на пасеку.
Эта мысль у него появилась еще по дороге в Новосибирск. За дорогу много приходило шальных мыслей. Взять Вику, будто бы для того, чтобы погулять на улице, посадить в машину и увезти. И пусть Ирма потом побегает. Или напиться и разогнать всех в доме. Если не разогнать, то спросить наконец, кто есть кто в этом обществе и с какой стати, какое имеет право решать их судьбу. Потом все это показалось глупостью, кроме одного — увезти Вику. Но Вика не соглашалась ехать вдвоем, просила взять маму с собой, дедушку с бабушкой, какую‑то тетю Ларису и дядю Диму. И он бы уговорил, потому что Вика постепенно сокращала компанию до одной мамы, однако им мешали. В зале, где они сидели и шептались, словно предчувствуя заговор, время от времени кто‑нибудь появлялся. Чаще всего совсем немощный уже дед в безрукавке, который вынимал из шкафа сапожную лапу, смотрел на нее слезящимися глазами, прятал назад, и выпивший Дима — двоюродный племянник тестя. Наконец пришла Ирма, взяла Вику за руку и увела ужинать.
В этот момент Сергей включил верхний свет и заметил картины. Тесть так и не выставил свои сокровища в картинной галерее, говорил, что оказались ужасными условия в залах, где должны вывесить полотна, что там грязно, давно не крашено, а человек должен идти на выставку, как на праздник. С картин на Сергея смотрели печальные глаза безвестных барынь, написанных рукой безвестных художников. В суровых глазах мужских портретов и даже в детских, на акварелях, тоже хранилась какая‑то печаль. Это чувство было заложено и в городских пейзажах Поленова, и в морской зыби кисти Айвазовского. Сергей смотрел не долго, но успел напиться этой печалью, и неизвестные люди, изображенные на полотнах, стали будто родными: в их лицах светились знакомые черты матери, отца, братьев…
— Смотришь? Ну, смотри, смотри, — Дима похлопал его по плечу. — Слушай, старина, пошли выпьем?
— Пошли! — неожиданно для себя согласился Сергей.
Они заперлись на ключ в дальней комнате, где когда‑то после смотрин ночевал Сергей. Дима достал из‑за дивана початую бутылку, выставил из шкафа рюмки.
— А за что выпьем? — спросил Сергей. — Давай за них? За бронзу?
— Ор‑ригинально, — отчего‑то зло проворчал Дима и, опрокинул рюмку. — За бронзу не пил…
Разговаривать было не о чем, сидели друг против друга, смотрели в стол. Обычно Сергей в другие приезды уворачивался от компании Димы. Похоже, парень медленно спивался. Если ему попадало сто граммов, то остановиться он не мог, бегал за водкой в магазин, если поздно — в ресторан или к таксистам на улицу. Спиртное в доме профессора от него прятали.
Сергей подошел к шкафу с бронзой и уставился сквозь стекло на витые канделябры.
— Что ты все смотришь? — возмутился Дима. — На что здесь смотреть? Это же все наворовано! Все наворовано! — И звякнул бутылкой, разливая водку.
Сергей обернулся:
— Как понять?
— А вот так и понимай! — отрезал Дима. — В прямом смысле… Если не наворовано, значит, скуплено по дешевке. За буханку хлеба, за килограмм масла…
Сергей вернулся к столу, Выпитое стояло комом в горле.
— Расстроился?.. Господи, что ты в самом деле. — Дима выпил. — Когда жрать хочется — штаны на барахолку понесешь. Но ведь кто‑то купит штаны! Чтоб человеку с голоду не пропасть… Пей!
Сергей подошел к двери, повернул ключ в замке.
— Погоди, старик, ты куда? — вскочил Дима. — Я тебе лажу гоню, а ты?.. Я пошутил! Я чтобы разговор завязать…
С Ирмой он чуть не столкнулся в коридоре. Вика, обряженная в ночную рубашку, прыгнула на шею, ткнулась в щеку влажной после мытья мордашкой, зашептала:
— Папа, идем со мной спать. А то мне ночью страшно. Проснусь, и страшно…
— Все, спать, — сказала Ирма и в первый раз за день подняла глаза на Сергея. — Скажи папе спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — повторила Вика и, оглядываясь, потянулась за материной рукой.
— Спокойной ночи, — Сергей снял с вешалки брезентушку, пропахшую хлебом и потом, стиснув зубы, нащупал в темноте дверной замок…
Ехать сразу же он не решился: могли остановить и отобрать права. И лишить тем самым того, что давно составляло часть его жизни, — способности передвигаться по земле своим ходом. Он загнал машину в глухой угол соседнего двора, откинул сиденье и лег, подтягивая колени к подбородку, чтобы подольше сохранить тепло…
На обратном пути он сделал еще одно открытие: домой, если можно домом назвать квартиру в многоэтажных «сотах», его не тянуло точно так же, как в сибирскую или в российскую Стремянку. К последней хоть было любопытство, желание понять, отчего туда манит отца. Что это за земля, если уже третье поколение вятских переселенцев бредит ею и не может забыть.
Он взял деньги, заработанные на шабашке, отвез Джима к Деве, в его новую квартиру в таких же «сотах», простился с ним и поехал в Киров.
Дорога в Россию походила на дорогу в сибирскую Стремянку, когда он ездил последний раз к отцу. Только тогда была весна, а сейчас стояла глубокая осень, мало чем отличавшаяся. Разве что весной он ждал лета, теперь же — холода, снега, зимы.
С вокзала он отправился на автобусную станцию, разглядывая сквозь плачущее окно троллейбуса серые невзрачные дома в потеках, грязные, без бордюров, улицы, голые деревья, и единственное, что пока радовало и наполняло душу каким‑то легким, щемящим чувством, — это вятский говорок, доносившийся со всех сторон. Если прикрыть глаза, то возникало ощущение — сладкое, как весенний дымок, от горевшей ботвы на огородах. И было трудно определить, где он. В далекой Вятке или в родной Стремянке? Когда‑то он не чувствовал вятского диалекта, смешно было слушать тех, кто говорил иначе, по его мнению, неправильно, не по‑русски. Но настал час другого открытия, перевернувшего все с ног на голову. В университете Сергей уже стеснялся своего вятского выговора, старался правильнее произносить слова, следил за своей речью и часто упускал смысл, путался и сбивался. И не отсюда ли возник тот самый комплекс, о котором так часто напоминала Ирма? Однако и это миновало, почти забылось. Разве что когда он приезжал в Стремянку, незаметно для себя вдруг начинал говорить по‑вятски, обнаруживая это лишь в городе. Срабатывал какой‑то слуховой рефлекс или он, научившись правильной речи, продолжал думать неправильно, с диалектом? А в деревне как‑то само собой получалось: как думал, так и говорил…
На автовокзале он купил билет и сел в роскошный «Икарус» с белыми салфетками в изголовье сидений. Похоже, от дождливой погоды и осенних сумерек города представлялось, что дорога будет грязной, ухабистой, автобус какой‑нибудь допотопный и пассажиры типичные — с кошелками, с мешками, с гусями в корзинах. Однако все выглядело иначе. Асфальтовое шоссе раскручивалось впереди бесконечной ровной лентой, укачивало, наваливался какой‑то дремотный покой. Сначала он таращился сквозь стекло, не пропуская ни одной деревеньки, с тихим восторгом проводил глазами ветряную мельницу, сохранившуюся в придорожном селе, постарался разглядеть воду в промелькнувшей под мостом речонке, затем уснул так, что соседу пришлось трясти его за плечо.
— Проснись, паренечёк, Тужа будёт!
Он вышел в Туже — районном центре, — когда вечерние сумерки, придавленные низким небом, напрочь закрыли село. Почему‑то сразу вспомнилась отцова шутка по поводу названия вятских сел.
— Как поеду за Тужу — за Пержу и за Вою!
Последние два села были настолько далекими, судя по рассказам отца, а дороги такими плохими, что Тужа считалась чуть ли не последним местом, где еще кое‑как можно жить человеку. И по его же рассказам он знал, как и куда ехать. Сколько раз, напоминая ему «заскочить в Россию», отец заново объяснял, как добраться до Стремянки. Объяснял так, словно недавно вернулся отсюда и видел все своими глазами. Но ведь он не был никогда здесь! Опять гены?
От Тужи до Стремянки оставалось тридцать километров по дороге, которая вела в село Караванное. Отец так и наказывал — спрашивай дорогу в Караванное, всякий покажет, поскольку село и раньше было известное, богатое, теперь‑то уж, поди, городом стало. Однако, даже зная дорогу, на ночь глядя отправляться в Стремянку не было смысла. Сергей прошел но улице, отыскал Дом колхозника, помещавшийся в большой старой избе, и попросился переночевать. Его поселили в комнате, где стояло с десяток кроватей и какие‑то мужики, по виду шабашники, играли в карты и пили вермут. Сергея позвали в компанию, предложили отхлебнуть из бутылки, он отказался: начнутся расспросы, разговоры, а хотелось молчать. Смотреть, думать и молчать. С того момента, как он вышел из поезда в Кирове, вдруг обострились чувства и все окружающее стало восприниматься в каком‑то своем первоначальном смысле. Дождь казался не сыростью, не промозглой мокрядью, а дождем, который сеял, сеял по земле влагу, напитывая ее, и был нужен. Было нужно низкое небо, грязные улицы и расхристанные деревянные тротуары села, потому что это — Тужа, место, где еще кое‑как можно жить человеку. Дом колхозника был домом, куда пускали переночевать, где сидели такие же, как он, мужики и пили дешевое и сердитое вино. И борщ в столовой по соседству был необычайно вкусным, наваристым, густым, тарелка такой глубокой, что, кажется, три пота сошло, пока выхлебал; котлета оказалась сочной, в меру мягкой и огромной, с мужскую ладонь. А хлеб и вовсе таял во рту, и можно было есть его, как пирог, без борща и котлеты.
Все воспринималось без всяких поправок и ссылок, таким, каким было, есть и, наверное, еще долго будет.
Ночью он несколько раз просыпался, резко приподнимался на кровати, осматривался, с испугом думал — где я? Почему здесь? Мужики играли в карты, пили вермут, горел свет. И Сергей сразу вспоминал, что едет в российскую Стремянку, вжимался лицом в теплую, нагретую подушку и сразу засыпал. Где‑то под утро ему приснилась светлая речка Пижма с цветочными берегами, какие‑то незнакомые люди, которые искали Катю Белошвейку. Сергей ответил, что Катя живет не здесь, а в сибирской Стремянке, но люди все равно подбегали к нему и спрашивали.
Утром он спросил дорогу на Караванное у дежурной, и та подробно рассказала, почти целиком повторив рассказы отца. По шоссе он вернулся назад, за Тужу, и свернул за разбитый, истерзанный большими машинами проселок. Липкая, красная грязь снимала на ходу башмаки, брызгала на штанины, на полы плаща и, засыхая, оставляла бурые пятна. Он подвернул брюки, но это не спасло. Ботинки превратились в комья глины, и отмыть их или хотя бы оттрясти, отделаться от вездесущего краснозема было невозможно. Едва дотащившись до первой деревеньки, он постучался в крайнюю избу и попросил сапоги. Маленькая, сморщенная старушка горестно поглядела на размокшие ботинки и достала из подпола пыльные резиновые сапоги.
— Есть‑от покшёнки, да не знаю, подойдут ли, — пропела она. — От старика остались, лежат‑от давно, худые уж, поди‑ко.
— Мне и худоватые подойдут, — в тон ей, прислушиваясь к собственному говору, сказал Сергей и засмеялся: — Экие покшёнки да экие ножёнки!
Старушка подала ему тертые‑перетертые, но чистые портянки, Сергей обулся, притопнул ногами:
— Теперь‑от я и до Караванного дойду!
— Ой, далеко тебе шагать, — пожалела старушка. — Машины‑ти редко ходят. Молоковоз‑от в Тужу прошел, назад поедет, да ты останавливай, не стесняйся.
— Мне до Стремянки только, — сказал. Сергей, веселея. — Дойду!
Старушка проводила его до ворот. Сергей вышел на дорогу, оглянулся.
— Сапоги‑ти не жмут ли? — крикнула ему старушка. — Ноженьки‑то набьешь, коли жмут. Старику‑то они маловаты были!
— Не жмут! — засмеялся он. — Я обратно пойду, дак верну сапоги!
Она помахала рукой и застыла у калитки. Сергей шел, оглядывался на пустынную дорогу и долго видел ее белеющее лицо.
Молоковоз догнал километров через пять. В кабине уже был пассажир, однако водитель остановил машину, пришлось уплотниться так, что едва захлопнули дверцу. Попутчики оказались людьми молчаливыми, грустными, и это как нельзя кстати удовлетворяло Сергея. Он трясся на ухабах вместе с двумя совершенно чужими мужиками, прижимался к ним боками, ощущал их тепло, смотрел на бесконечные красные поля с перелесками, и ему было удивительно легко и хорошо. Мимо проплывали крохотные, в пять‑семь дворов деревеньки, в некоторых еще стояли ветряные мельницы — совсем целые с виду и бескрылые, но, похоже, все давно заброшенные. И эти меленки придавали деревенькам какой‑то сказочный дух. Они будто не только останавливали время, а неведомым образом откручивали его назад, в прошлое; и Сергей бы не удивился, если б увидел сейчас на поле хрестоматийного мужичка с сохой, подымающего зябь. Едет себе былинный ратаюшко, понукивает лошаденку и поет песню…
Шофер остановился возле свертка и закурил, что‑то ожидая.
— Что? — вздрогнув, спросил Сергей.
— Дак Стремянка, — сказал шофер. — А нам дальше…
Сергей выбрался из кабины, огляделся: поля, перелески, опять поля…
— Где же Стремянка? — крикнул он. Шофер уже тронул машину, выглядывал над опущенным стеклом дверцы.
— Во‑он там была! — показал он вдоль ельников. — Кладбище‑то видишь ли?.. Там и была.
— А деревня? Деревня где?!
— Дак нету! А место Стремянкой называется.
Сергей пошел вдоль ельников, по краю вспаханной зяби, вглядываясь вперед и ощущая сердцебиение. Стало жарко. Он расстегнул кожаный плащ и побежал, цепляясь полами за сучья. Дорога кончилась! Точнее, она когда‑то существовала, может быть, еще весной, но сейчас была перепахана, и глыбы спрессованной красной земли еще хранили отпечатки колес. Он пробежал мимо замшелого кладбища с покосившимися крестами и очутился на берегу…
Светлая холодная река несла желтые листья; космы прибрежной осоки, словно женские волосы, полоскались и бороздили тихую воду.
А там, где было село, лежало вспаханное поле и лишь бурые пятна по красной земле, будто родинки, отмечали места, где стояли дворы.
В желаемом дорожном молчании он думал, как придет в село, как заговорит со старушкой, похожей на ту, что дала сапоги, и старушка станет гадать, кто он, чей, к кому приехал. Тогда он назовет фамилию, брови у старушки вскинутся, вытянутся бесцветные губы — конечно же знает! Ведь должен остаться какой‑нибудь корешок, пусть слишком далекий, но сохранивший фамилию.
Сергей опустился на землю, там, где стоял, — на пахоту, а память вдруг вывернула слежавшийся, тяжелый ком воспоминаний, связанных со смертью матери. Ее уже не было на свете, он же, не зная об этом, весь день думал о матери и в сознании вспыхивали какие‑то случайные, малозначащие эпизоды. Вот мать хлопает половики во дворе — босая, в туго повязанном платочке, вот они идут с ней по лесу и ищут корову. Мать останавливается и громко, протяжно зовет: Дочка, Дочка! Дочка‑а‑а!.. Эхо ей откликается, где‑то козодой трещит и кукует припозднившаяся, кукушка. А вот она несет воду на коромысле, вот растапливает утром печь…
Мать уже умерла, а он до самого вечера все еще думал о ней как о живой, и только вечером получил телеграмму. Сразу вспомнил сон, приснившийся накануне. Будто он бежал по берегу реки и уронил в воду шапку. Шапка поплыла, захваченная стремниной, все дальше к середине, он же бегал взад‑вперед и никак не мог достать ее. Так и уплыла шапочка за поворот…
Словно заряженный этим сном, он и думал о матери целый день, потому что в детстве так и было: он сронил шапку в воду и со слезами прибежал домой. Мать утешала его, гладила по волосам и говорила, что жалеть‑то не шапку надо, а голову.
Стремянка и впрямь была на красивом месте. С одной стороны ельники с прожилками берез, с другой чистый, светлый березняк, а лицом стояла к речке Пижме, за которой желтели осенние луга с отметинами стогов. На задах у бывшего села, как и положено на крестьянском дворе, тянулось одно большое, теперь свежевспаханное поле. Ни какой‑либо постройки, ни даже колышка не осталось от села, если не считать кладбища. Да и его бы перепахали, окажись оно на чистом месте. Над крестами же нависали раскидистые кроны могучих, застаревших сосен, будто огрузших от тяжести.
Куда же тянуло отца? Куда манило всю жизнь деда, прадеда? И прапрадед, доживая свой век, покрывался вернуться на этот берег реки. Куда же они рвались‑то? Целых три поколения жили и обманывали себя, что в любой момент могут вернуться к берегу, на материк и эта красная земля примет их, приютит, согреет. Скорее всего, прадеду было еще куда вернуться, возможно, и дед. Тимофей захватил бы еще живой Стремянку, но отцу‑то уж точно некуда. Что же он тогда который год словно болеет этой тягой? Почему он так настойчиво просил заехать сюда, посмотреть? Может, чувствовал, предугадывал, что Стремянки давно нет? А может… знал, что нет ее! Знал, но не хотел поверить, потому что человеку надо, чтобы его всегда куда‑нибудь тянуло. Чтобы постоянно жила вера в светлую цветочную речку, на берегу которой ему будет хорошо. Святой самообман, добровольное заблуждение, а гены здесь ни при чем…
Почему‑то заболели ноги, заломило пальцы, как бывает после мороза у горячей печи. Сергей долго шевелил ими, пока не обнаружил, что сапоги‑то маловаты, что скрюченные пальцы упираются в носки и давно занемели, и только сейчас, после шевеления, начинают наполняться кровью. Заныли старые сухие мозоли на козонках. Расшлепанные в детстве ноги противились всякой тесной обуви, и когда‑то их пришлось тоже приучать к туфлям, к высоким подборам — избавлять от «деревенского диалекта». Сергей переобулся, натянув сапоги с одними портянками, и стало чуть посвободнее. Только теперь он заметил, что уже вечер, хотя была надежда, что развиднеется, отхлынут сумерки и разгорится день. Он добрел до кладбища и как в шатер вошел под старые сосны. Изъязвленные гнилью, обомшелые кресты кланялись на все четыре стороны, а некоторые и вовсе пали ниц, врастая в землю, оплетаясь травой, и казалось, стоят они просто на ровной земле, поскольку холмики могил давно расползлись, выровнялись заподлицо. Под ногами мягко качался глубокий мох, словно шубным одеялом покрывающий все кладбище, и на память пришла фраза, которую так часто повторяли на похоронах и поминках, — пусть земля ему будет пухом. Наверно, земля здесь была легкая, песчаная, не как тяжелый краснозем на поле, и не потому ли жители пропавшей Стремянки избрали это место для кладбища?
Сергей долго бродил между крестов, пока не стал терять их из виду. Сосновые кроны растворились в сумерках. И вместе с ночной теменью создавалось впечатление, будто весь этот берег начинает терять связь с окружающим миром, будто, оторвавшись от земли, он несется сам по себе в пустом — без единого огонька и звука — пространстве. Иначе бы откуда взяться невидимому ветру, свистящему в ушах?
А корешок все‑таки остался. Он сидел в этой земле глубоко, крепко, как древние сосны. Сергей еще при свете пытался найти надписи на крестах, каким‑нибудь образом узнать, где лежит его предок, но все было напрасно. Время стерло приметы, и под каждым крестом мог лежать его родич. Обезличенные временем могилы и лежащие под ними кости становились как бы общими предками для ныне живущих, связывали прямой линией родства. Но при жизни‑то все было не так. Сергей вспомнил давнюю и настойчивую просьбу отца положить его после смерти между дедом и женой. Всякий раз, когда они бывали на кладбище, показывал это место, ходил по нему, отчерчивал сапогом грани, тыкал пальцем — сюда! Его серьезность казалась тогда если не смешной, то какой‑то неуместной. А видимо, это очень важно — знать при жизни, где тебе лежать всё оставшееся Время. Где и с кем. Долгое время это будет важно только для твоих потомков, но, когда сотрутся надписи и холмики, замшеют кресты и камни, важно станет для всех. И не тогда ли наступает вечность?
Прячась от ветра за крайним деревом, Сергей снова снял сапоги и попробовал растянуть, размять их носки, однако твердая резина не поддавалась. Тогда он вынул стельки — истертые, обмахрившиеся суконки — и обулся на босую ногу. Одеревеневшие пальцы налились теплом, утихли сухие мозоли, и как‑то сразу стало легко. Он встал с земли, намереваясь спуститься к воде, и тут с изумлением увидел мельницу. Высокий шатер ветряка поднимался прямо посередине пашни, на том месте, где при вечернем свете были заметны лишь родимые пятна от исчезнувших дворов. Ее крылья, обращенные к ветру, медленно поворачивались, создавая иллюзию полета. Сергей оттолкнулся от дерева и пошел по пашне, увязая в земле. Он уже хорошо видел бревенчатые венцы, маленькие окошки под четырехскатной крышей, потрескавшиеся, щербатые торцы на углах и не удивлялся, что может видеть в темноте. Ветряк казался подсвеченным откуда‑то снизу. Сергей приблизился на десяток шагов, когда шестикрылая мельница вокруг стала отдаляться. Он снова настиг ее, хотел достать рукой, однако мельница стояла уже возле ельников, а на том месте, где она только что была, осталось белое мучное пятно. Сергей склонился, набрал пригоршню муки и поднес ко рту. Вкуса он не ощутил. Мука таяла на губах. Тогда он ссыпал ее из ладоней на место и обнаружил, что все красное вспаханное поле сплошь засыпано мукой. И мельницы уже не было, и ветер улегся, и весь этот берег, этот кусок земли, прирос к своему месту.
Снег выпал глубокий, так что в контрасте с ним тихая вода Пижмы сделалась черной, словно в колодце. Черными казались ельники, стволы сосен и кланяющиеся кресты. Теплое дерево и еще не остуженная вода топили снег, не давая ему осесть. Но и земля еще была теплой, потому что по белой равнине пашни там и тут проявлялись красные влажные комья.
Он вышел на дорогу, когда снег почти растаял и все вчерашние краски вновь обрели свой цвет и даже были ярче, словно на картине, обновленной свежим лаком. Красноватая, в блестках луж, дорога змеилась в обе стороны и терялась где‑то в полях и перелесках. В тот час не было ни души вокруг, от тишины слышалось биение крови в ушах и шорох травы под ногами казался таким громким, будто он шел по железной крыше.
С дороги он оглянулся последний раз на место, где стояла когда‑то Стремянка, и, уже больше не оборачиваясь, удерживая себя от этого желания, побрел по грязному проселку. Кожаный плащ окончательно промок, отяжелел и почти не грел: он зяб, сдерживая дрожь, загоняя ее глубже в тело, и оттого боялся дышать полной грудью. Можно было побежать, чтобы согреться, но Сергей ощущал растущее онемение под левой лопаткой, а левую руку тихонько мозжило. Он старался двигаться размеренно, чтобы не разбудить острую боль в сердце. Мимо тянулись поля со сжатой гречихой, еловые леса с березовыми проплешинами, красными полотнищами лежала вспаханная зябь. Дорога казалась бесконечной, тянула от увала к увалу, переваливалась с боку на бок, вброд пересекая утлые заболоченные речонки. Пустынная земля была печальной, но в этой печали хранилась какая‑то сладость, живая, созидательная сила, от которой еще больше хотелось жить, и дремлющая в сердце боль лишь подстегивала это желание. Можно было зайти в одну из деревенек, обогреться и отдохнуть, но печальная дорога словно привязала его и не отпускала, заставляя выхлебать свою сладость до самого дна. И он хлебал, стараясь не пролить капли.
Где‑то на середине пути он свернул на поле и попытался зажечь кучу гречишной соломы. Мокрая солома не горела, исходила горьковатым дымом, не в силах набрать нужного жара, гасла. Сергей вытряхнул из кармана все бумажки — какие‑то справки, записки с адресами и телефонами, квитки с расписанием будущих лекций, пустил все это на растопку, однако солома так и не загорелась. Тогда он разрыл логово, сел в него и достал стеклянный пенал с нитроглицерином. Таблетки перетолклись в порошок. Он насыпал его на ладонь, слизнул и почти сразу ощутил, как боль из сердца перелилась в затылок и виски. Он перетерпел эту боль, сидя с закрытыми глазами, потом выбрался из соломы и снова ступил на дорогу.
Серое, сумеречное утро, как и вчера, перешло в такой же день, остановившиеся часы показывали три часа ночи, и Сергей потерял ощущение времени. К тому же на какой‑то миг ему почудилось, что он идет не в ту сторону, не в Тужу, а в неведомое Караванное, и теперь надо возвращаться, повторив весь путь по печальному проселку. Он остановился, размышляя и пытаясь припомнить, куда повернул с остатка неперепаханной стремянской дороги, и услышал нагоняющий его одинокий гул машины.
Вчерашний молоковоз зигзагами шел по проселку, буксовал и юзил, высоко в небо выметывая колесами грязь. Шофер остановился сам, молча подождав, пока Сергей заберется в кабину, с хрястом включил скорость. В кабине пахло жаром нагретого мотора, бензином и… хлебом. Тонкий его дух перебивал все остальные запахи и навязчиво притягивал мысли. Голод возник сразу, и такой сильный, что заглушал ноющую сердечную боль.
— У вас хлеба… не найдется? — спросил Сергей, обернувшись к водителю. Голос прозвучал хрипловато и как‑то странно, словно чужой, слова показались скрипучими, как битое стекло под сапогом. Шофер молча отдернул дверцу «бардачка». Там лежала большая краюха свежего ржаного хлеба. Сергей осторожно взял хлеб измазанными в красной земле руками, отломил и стал есть. Он откусывал и жевал долго, пока хлеб не превращался в кашицу, затем рассасывал его и с сожалением глотал: хлеб был кисловатым, но в том‑то и была его хлебная сладость.
Водитель неожиданно притормозил и достал из‑под сиденья белый пластиковый шланг.
— Пошли, — буркнул он.
Сергей послушно спрыгнул на землю и остановился возле цистерны молоковоза. Шофер забрался наверх, открутил люк и, запустив туда шланг, пососал.
— На, — сказал он, протягивая шланг, перегнутый на конце, чтобы не выливалось молоко. — Что ж всухомятку‑то… Пока и мотор остынет.
Теперь Сергей откусывал хлеб и сосал молоко. И вспоминал, когда последний раз в жизни ел вот так, хлеб с молоком, и был сыт. Пожалуй, давно, скорее всего в детстве.
И снова побежала дорога. Его болтало в кабине, швыряло от дверцы к шоферу, и прыгали за стеклом реальные грязные поля с кучами соломы, жидкие, полуободранные, словно льняные очески, березняки, жалкие ельники и ухабистая дорога. И мысли прыгали следом, выхватывая из памяти знобящие, как серый осенний день, эпизоды. Под эти воспоминания он чуть было не проехал мимо деревни, где жила старушка, отдавшая ему сапоги. Он запоздало попросил остановить, выскочил на улицу и так же запоздало крикнул спасибо шоферу молоковоза. Шофер, наверное, и не расслышал, буксуя в грязи…
Старушка встретила его ласково, заохала, запричитала — какой он усталый, грязный и наверняка голодный, опять спросила, не жали ли сапоги, позвала его в избу, усадила за стол и начала чем‑то кормить. Он что‑то ел, коротко отвечал на вопросы, как заведенный, и одновременно пытался понять, что же изменилось в старушке, пока он ходил в Стремянку. Решил, что появилась горьковатинка в складках у губ и в опущенных книзу уголках глаз, но вспомнил, что все это было еще вчера. Так и не додумав, он полез на печь, куда его настойчиво посылала старушка, укрылся там горячим шубным одеялом, но, согревшись, не уснул.
В памяти встала последняя ссора с женой и опять из‑за этой работы в приемной комиссии, вернее, в конфликтной. Ирма просила присмотреть и помочь, когда будут разбирать на комиссии и заново переэкзаменовывать мальчика, способного, по ее словам. Сергей напрочь отказался, и тогда у самого случился конфликт, много серьезней, чем тот, ночной.
— Почему же ты не возмущался, когда тебе помогали? — спросила Ирма. — Почему ты помалкивал?
— Мне помогали?! — взъярился Сергей. — Да я сам, все делал сам и всю жизнь! За меня ни сочинений, ни статей не писали!
— Наивный же ты человек!.. Или забывчивый! Кто протолкнул твою диссертацию, когда ее ВАК чуть не зарубил? — когда жена была в гневе, волосы ее почему‑то спадали и закрывали лицо. — Мой папа специально ездил в Москву!.. А твоя статья до сих пор бы пылилась в редакции, если бы не он!
— Кто его просил?!
— Да разве об этом нужно просить? — Ирма все убирала и убирала волосы с глаз. — Мы должны помогать друг другу. Это естественно и просто необходимо! Иначе просто не выжить, потому что в науку полезут, всякие бездари, всякие кретины с одной извилиной. Сейчас модно идти от сохи да в поэты…
— А я — откуда? — тихо спросил он. — Я же из Стремянки…
— Это бывает раз в сто лет, — бросила она. — И все равно бы так и остался из Стремянки, если бы тебе не помогали… Папа за каждым твоим шагом следит, за каждой статьей. Ты должен был сам об этом догадаться… И мальчику тому ты поможешь. Иначе…
— Что — иначе?
— Иначе я посмотрю, как ты сам будешь защищать докторскую. — резанула Ирма. — Распетушился, святая простота…
Он ничего не мог ответить. Он сидел и, как тогда, после защиты, тупо думал, что на всех его статьях, диссертациях, выстраданных днями в научной библиотеке и ночами за столом, на всей его работе, за которой столько передумано, перелопачено мыслей, на всей его жизни лежит какая‑то печать, вызывающая не то чтобы отвращение, а привкус чего‑то нечистого. И теперь, что бы ни делал сам, — на всем будет черная мета. Это обстоятельство, эти отпечатки, по сути, сводили на нет все его старания в жизни, как ложка дегтя портит бочку меда.
Нынешней весной он должен был стать самым молодым доктором в университете…
За этими воспоминаниями Сергей заснул, но как‑то неглубоко, зябко, и в полуяви снова увидел летающую шестикрылую мельницу, парящую над красной землей, бесконечный грязный проселок, серо‑желтое жнивье и кучи сырой соломы. Снились печальные только что пройденные места, и, как тогда на дороге, становилось радостно от печали. Однако сон этот лишь дал минутную передышку. В яви же состояние горьких раздумий немедленно вернулось, причем с удвоенной силой и остротой. «Нельзя так, — шептал он, укрываясь и вжимаясь в угол горячей печи. — Нельзя… Так можно сойти с ума. Вот уж и сны цветные, говорят, первый признак шизофрении… Я ходил по просьбе отца посмотреть на Стремянку. И все. И больше ничего. Я ходил сюда потому, что просил отец…»
Чтобы как‑то сбить губительный поток размышлений, он нащупал в темноте лук, связанный в «косу», выплел головку и съел, сжевал пронизывающую рот горечь. «Я приду домой, — продолжал шептать он деревянным от жжения языком. — И все будет хорошо. Приедет Ирма, привезет Вику, и мы опять заживем. Все заживет, и мы заживем…» Он шептал и не верил своим словам, он вытирал слезы, бегущие по щекам, и твердил, что это от лука, что в луке есть какие‑то эфирные масла, вызывающие слезотечение, только и всего. А он не плачет. Что ему плакать?..
Так, со слезами, он снова заснул, теперь крепко, хотя продолжал ощущать реальность. Горячая печь обволакивала умиротворяющим теплом, шубное одеяло не давило, как прежде, казалось легким, пушистым, как кладбищенский мох. Ему приснился все тот же сон, который он уже видел однажды: шел по берегу и уронил шапку в воду, будто бежит за ней, пытается дотянуться рукой, затем палкой, но шапка уплывает, уплывает на середину и пропадает за поворотом. Во сне же он подумал, что сон‑то это плохой, к смерти, однако чувства оставались легкими, и было совсем не жаль уплывшей шапки. К тому же сон получил продолжение, сплетаясь с былью; потеряв шапку, он со слезами бежал домой, и мать успокаивала его, гладила по голове, прижимала к груди, пахнущей молоком. В детстве, когда это случилось на самом деле, мать еще кормила грудью поскребыша Тимошку, и от обилия молока у нее на груди всегда расплывались два темных круга…
Сергей и проснулся с ощущением этого запаха. В первый миг он не понял, где находится: печь и стены избы так походили на родные, стремянские, слышно было, как трещит и мается огонь, бросая на стекла окон багровые отблески, пахло свежими, только что вынутыми из печи блинами, дымком от сосновых дров. Он, как в детстве, чуть не крикнул — мама! — но вовремя спохватился. На вешалке висел его отмытый и высушенный плащ, внизу стояли очищенные от грязи ботинки и рядом — резиновые сапоги. Наверное, было еще очень рано — за окнами стояла непроглядная тьма, но то, что уже утро, можно было угадать без часов. Старушка хлопотала у печи, разговаривала с блинами, с ухватом и огнем.
Он попытался высвободиться из‑под одеяла, пошевелив расслабленными от сна ногами и руками, и не смог. Слушая знакомый вятский говорок, он снова стал засыпать. Поплыла, качаясь, луковая коса, дрогнула непоколебимая печь и, зыбясь, стала убаюкивать.
24
Стремянка в те дни напоминала растревоженный медведем улей.
Даже сведущий в экономических дебрях и принципах хозяйствования Вежин терялся и понимал не все, что происходит. Он лишь чувствовал, что в области и на стремянских гарях появилась сила, о которой никогда не слыхивали. Она могла все, эта сила, и как все сильное, не кричала о себе, не кичилась, а спокойно делала свое дело, оставаясь незримой. Люди, представлявшие ее, были сосредоточенны, деловиты и решительны — качества, нередко принадлежащие тем, кто быстро привыкает к новым местам, много ездит и умеет работать. А еще они чувствовали за собой крепкую поддержку, знали, что без них не обойдутся, и, не имея власти, не имея права хозяина, они могли диктовать свою волю. Когда на Севере вырос целый город нефтепромысловиков и стало ясно, что через год‑другой область не сможет своими силами прокормить его население — нет ни денег, ни людей, ни техники, чтобы строить новые совхозы, — нефтяники сказали: мы сами! И этим развязали себе руки, как богатые гости у бедного хозяина. Они были предприимчивы: они сами отыскали десятки тысяч гектаров, по их мнению, отличной земли на стремянских гарях и только ткнули пальцем в карту — здесь! Они пригнали свою технику, прислали своих людей, привезли свои стройматериалы и взялись за привычное дело — обустраивать и обживать новое место. Они были предприимчивы, хотя и расточительны от избалованности достатком; они были смелыми и сильными. Но проигрывали только в одном и, пожалуй, самом главном: никто из них никогда не строил совхозов и не пахал земли. Их деловитость была настолько внушительной и стремительной, что даже те, кто всю жизнь пахал, вдруг разуверились в своем опыте. Кто знает, на что способны эти люди? Перед ними, может, и вода отступит, и болотистая земля начнет родить?
После поездки Вежина в Москву нефтяники прекратили корчевку гарей. Силы у них не уменьшилось, просто что‑то заело в машине управления и нужно было время, чтобы подремонтировать или смазать ее. Но в этот момент у нефтяников появился неожиданный конкурент, неожиданный и для самого Вежина — мелиорация, к которой он ходил за защитой гарей. Что там между соперниками происходило, какие возникали споры и дебаты, из Стремянки было не видно и едва слышно. Вежин ожидал победы не кого‑нибудь из них, а третьего лица — управления сельского хозяйства, самого древнего и самого, как он надеялся, мощного хозяйства.
Но знать бы, где упасть! На следующий же день, как сожгли пасеку Заварзиных, в Стремянку нагрянула эпизоотологическая комиссия и начала проверку пасек. И от пристрастности, с которой пять женщин в белых, пропахших карболкой халатах искали клеща, стало ясно, что послана она с целью — доказать непригодность местности для племенного разведения пчел. А варроатозом оказались заражены почти все пасеки — одна больше, другая меньше, но это уже ничего не значило. Комиссия ездила на микроавтобусе, и за ним, как почетный кортеж, тянулся хвост из легковушек. Пчеловоды, у кого уже нашли клеща, теперь ради любопытства таскались за комиссией, напряженно ждали, пока шла проверка, и если варроатоза не оказывалось, то возникало какое‑то разочарование. К вечеру они проехали все пасеки и остановились у последней — ревякинской. Хозяин хоть и был предупрежден, но куда‑то исчез, заперев калитку и пропустив ток по проволоке. Кого‑то уже ударило, и тогда мужики, не долго думая, набросили на колючку железный обруч от бочки, замкнули систему, отчего из сарайчика, где стояла станция, ударил сноп искр. Затем плоскогубцами сделали проход и запустили комиссию. В первом же улье у Ревякина тоже нашли варроатоз, для верности проверили еще пяток и напротив его фамилии в ведомости поставили крест.
В тот же день Стремянку объявили очагом заражения и наложили карантин. Пчеловоды гадали, откуда на сей раз свалилась на них беда, но ничего путного придумать не могли. Однако кому‑то в голову пришла мысль, вернее, вывод: клещ был только на тех пасеках, которые чаще всего зорил стремянский костоправ. И наоборот, вообще не было его, где не бывал медведь. Значит, переносчиком заразы оказался он, и тут к месту вспомнили Артюшу. Неужто дурачок прав, и в самом деле это оборотень? После того, как Артюша стрелял в него возле омшаника, медведь пропал. Но вместо медведя на гарях появился другой зверь — огромная черная собака. Ее видела жена Михаила Солякина, когда мужики жгли заварзинскую пасеку. Собака прибежала к пасечной избе и стала ласкаться к хозяйке, тереться о ноги и заглядывать в глаза. Жена сообразила, что такого пса неплохо бы привязать и оставить для охраны, раз он ходит без хозяина по гарям, и пошла искать веревочку. Собака же в этот момент схватила молодую ярку, по‑волчьи забросив на спину, помчалась в шелкопрядники. Когда хозяйка снова вышла во двор, черный пес уже был далеко. От этих бабьих рассказов несло какой‑то чертовщиной, и мужики пока только посмеивались: дескать, пасеки‑то собака трогать не станет.
Однако варроатоз сейчас занимал пчеловодов больше всего. Выходов было только два: либо начать лечение, в пользу которого мало верили, либо продать пасеки на тепличные комбинаты для опыления цветов. Последний вариант предлагали женщины из комиссии. А представитель управления сельского хозяйства Мутовкин уже больше ничего не предлагал. Он взял копию акта обследования пасек и уехал в область. Надо было полагать, что вопрос о строительстве пчеловодческого племенного совхоза отпал сам собой. Сутки спустя трактора нефтяников уже вышли пахать раскорчеванную зимой гарь. Впрочем, связывать это с комиссией и поражением интересов управления сельского хозяйства было бы неверно; скорее всего нефтяники просто ждали, когда подсохнет и окрепнет изорванная ножами и гусеницами жирная, мягкая земля.
Мужики сбивались кучками по два‑четыре человека, думали, мараковали, что делать дальше. И только Барма, у которого пасека оказалась стерильно‑чистой, ходил по селу с гармонью и пел песни.
— Я секрет, секрет знаю! — кричал и дразнил он мужиков. — Слово‑слово такое! Почему у вас зараза‑то? Почему? А по науке держите! По науке пчелу‑пчелу нельзя держать! Ей воля‑воля, нужна!
А пока пчеловоды ломали головы, к вечеру явился Ревякин и заявил, что пасеку уже продал тепличному комбинату по сто рублей за семью. Мужики бросились на телефон, заказывали переговоры с комбинатом, но оказалось, что ревякинских пчел уже с лихвой хватит, чтобы опылить цветущие огурцы и помидоры во всех теплицах. Это разозлило пчеловодов, и они бросились искать Ревякина. Вдруг кому‑то пришла мысль, что заражение клещом началось не с заварзинской пасеки, а с его, Ревякина, так как он приехал в Стремянку и привез с собой уже зараженных пчел… Именно его, Ревякина, пасеку чаще зорил медведь и разносил варроатоз по всем гарям. К тому же Михаил Солякин встал перед мужиками и покаялся:
— Видал! Сам видал, мужики! Ревякин пчел воровал! Рои чужие ловил! Однажды иду — в шелкопрядниках улей стоит. Ну, сделал засаду и скараулил Витьку! Он! На мотоцикле с роевней подъехал и пчел забрал! Я его за руку поймал!
Мужики онемели от такого сообщения. Тут же нашлись добровольцы и пошли искать Ревякина. Съездили к нему на пасеку, затем к Вежину, но не нашли. А руки! Ох, как руки чесались! Вот он, виновник всех бед стремянских. И как шустро все повернул! Всех обставил, все в дураках!
И навряд ли отступились от него в этот день и отложили бы спрос с Ревякина на завтра, если бы ко всему прочему узнали, что Витька, встретив Барму, прямо на улице сторговал его пасеку за двадцать пять тысяч и поехал к нему пить магарыч. Жена Бармы встретила Ревякина, как сына родного, как избавителя от всех бед и несчастий. А Ревякин, напоив и так веселого Барму, уединился с ним и стал выпытывать пасечные секреты.
Но Вежин не мог ждать до завтра. Он расспросил женщин у магазина и поехал к Барме. Барма уже спал, развалившись на траве между ульев, а Ревякин, пригнав откуда‑то грузовики, ждал, когда наступит вечер и слетятся пчелы.
— Поехали со мной, — сказал Вежин и открыл дверцу машины.
— Хватит, я с тобой уже накатался, — недружелюбно проронил Ревякин и пошел по пасеке, приглядываясь к леткам, на которых суетились возвращающиеся пчелы. Вежин не отставал.
— Мужики считают, что клещ пошел от тебя. Хотят спросить.
— С меня спросить? — удивился Ревякин. — Пусть с Заварзина спрашивают. У него первого нашли. Я вообще думаю, он специально пасеку заразил, чтобы в Стремянке пчеловодства не стало. Помнишь, как он против выступал?
— Ладно, — сдержанно согласился Вежин. — Тогда откуда он у тебя взялся? До твоей пасеки от Заварзина сорок километров!
— А откуда у Заварзина? — вцепился Ревякин. — Расстояние одно и то же!
— Но до тебя у нас никакой заразы не было! — не стерпел Вежин. — Это ты клеща привез, ты! Почему ты не признался?
Шоферы сидели на крыльце избы и ели сотовый прошлогодний мед, запивая водой. Прислушивались к разговору, смотрели на Вежина с подозрительностью.
— Это еще перед кем? И с какой стати?
— Но мы же с тобой…
— Что? Республиканцы? — он вдруг засмеялся. — Лопнули твои эти прожекты! Ты еще не понял?.. Ладно, я тебе продам десяток семей из барминской пасеки. Можешь разводить.
— Мне твои подачки не нужны! — отрезал Вежин. — Так говоришь, мои прожекты? Ты что, Виктор? Как ты можешь?..
— Хороший ты мужик, Петрович. Но, похоже, засиделся в одиночестве… Муть все это голубая. Республика твоя, отшельники. Кто поедет? Кто сегодня согласится торчать на пасеке? Ну? Ты подумай!.. Контакт с природой! А где она здесь, природа? Я вижу только гари!.. Брось ты все это, Петрович. Нефтяников теперь не удержишь, они пашут. Поиграли в спасателей человечества, надо теперь за дело браться.
— Я не играл, — тихо вымолвил Сергей Петрович.
— Ну, ошибался!
— Эй, хозяин! — окликнул Ревякина один из шоферов. — Что этот мужик к тебе имеет?
— Сами разберемся, — отмахнулся Ревякии.
— Если надо — кликни, — отозвался шофер. — Ввалим, чтоб не цеплялся.
— Я не ошибался… Вернее, да, ошибался. — Вежин развернул к себе Ревякина, схватив за плечо. — Значит, клещ от Заварзина пошел… От него, от него пошел. А ты рои у него воровал! Ну? И клеща на свою пасеку вместе с ворованными пчелами принес! Солякин видел. Он тебя за руку поймал!
— Это не воровство, — пожал плечами Ревякин. — Рой улетел — я поймал. Только и всего. Все равно бы зимой в дупле замерз. Рой с пасеки улетел — значит, уже ничей.
— У нас так не было… До тебя не было! Последнее дело — чужих пчел ловить. Это… что в карман залезть, что…
— Да мало ли что у вас тут было! — возмутился Ревякин. — Видали его?
— Ты же меня предал, — выдохнул Вежин. — Я же с тобой… Как же мне людям, в глаза теперь смотреть?
— Это твои проблемы!.. Да и кого ты здесь застеснялся, в Стремянке? Кретины же сплошные! Вон, валяется один, надрался, как… Ладно, у меня перед твоими сыновьями долг. Я тебе продам десяток семей. Но больше никто не получит.
— Что же мне с тобой делать? — не слушая его, спросил Вежин. — А ведь с тобой ничего не сделаешь. Ты же неуязвимый. Ты сильный парень. Тебя ведь и не выгонишь теперь. Все гари тебе остались… Говоришь, долг перед моими сыновьями? Ладно, я спрошу, какой долг…
В тот же день на территории района и за его пределами были перекрыты все дороги, в том числе и проселочные, ведущие в соседнюю область, а на реке дежурили милицейские патрули. Задерживали и проверяли все автомобили, выезжающие из района, останавливали лодки и небольшие катера, опрашивали всех встречных и поперечных. Начальник милиции выпросил у нефтяников вертолет и несколько часов подряд болтался в небе, осматривая примерный район, в котором исчез рыбнадзор Заварзин. Пока никаких определенных сведений не было; на пристани видели, что Тимофей поехал вниз по реке. Впрочем, не было и конкретных доказательств, что рыбнадзор с женой погибли, но начальник милиции исходил из очевидного — рыбнадзоры просто так не исчезают. В области то был не первый случай. Тремя годами раньше инспектора убили прямо в лодке, на полном ходу. Стреляли хладнокровно и расчетливо — со встречной лодки, в упор. В позапрошлом году другой рыбнадзор привез в спине мелкокалиберную пулю, пробившую легкие. Однако раненым смог доехать до ближайшей деревни. На воде по‑прежнему не оставалось следов, и преступников красиво брали только в кино. Начальник милиции по старой памяти, а скорее, по интуиции залетел на базу отдыха нефтяников. Там уже слышали о пропаже инспектора, и седой, представительный мужчина объяснил, что разговаривал с Тимофеем около четырех часов дня, приглашал его пообедать, но тот отказался, поскольку спешил, и обещал заехать на обратном пути. И никаких больше следов за этот день найти не удалось.
Сергей с отцом сели на катер Тимофея, которым командовал теперь капитан Мишка Щекин, взяли на борт милицейского лейтенанта и поплыли вниз. На катере были и те два уполномоченных, что приезжали к рыбнадзору Заварзину обобщать опыт борьбы с браконьерством. Срок их командировки закончился, но они не пожелали уезжать и рвались на поиски Тимофея. Оба оцепенели, словно во время тихой беседы их вдруг окликнули, а они обернулись и увидели что‑то страшное. Заварзиных на катере старались не трогать, не донимать лишними расспросами или сочувствием. Они и сами не лезли на глаза, держались рядом и больше молчали. Разве что Мишка Щекин, неожиданно ставший говорливым и раздраженным, время от времени успокаивал:
— Ничего, Василий Тимофеич! Я их достану! Я с ними, суками, за Тимку рассчитаюсь! Я им устрою сладкую жизнь!
А попутно материл ни в чем не повинных уполномоченных и лейтенанта, с остервенением крутил штурвал и злым, коротким движением скидывал трап, когда причаливали к берегу. Лейтенант останавливал встречные лодки, опрашивал людей, и Сергей видел, как у Щекина накипает в глазах корочка ненависти. Вмешиваться в разговоры Щекину запретили.
Ночь они не спали — проверяли лодки. Наготове стояла быстроходная «Обь» под двумя моторами. Считали, что если преступники не покинули еще район, то попытаются вырваться из него ночью. На катере уже не сомневались, что Тимофей с женой погибли. Даже отец был уверен в этом, но выглядел спокойным и только ходил как‑то деревянно и прямо. Ночью к Сергею подошел уполномоченный, тот, что моложе, опершись на леера, заговорил, глядя в темную воду:
— Вы знаете, а я чувствовал… Не думал только, что так скоро… Он рассказывал, жаловался… Нет, не жаловался — возмущался. А я случайно поймал его взгляд и подумал… Он и сам чуял, из инспекции собрался уходить… И не ушел… А сейчас вот смотрю — патрули милицейские с оружием… Так это уже борьба не с браконьерством — с бандитизмом. В самом деле, чем они от бандитов отличаются? Просто мы привыкли считать браконьерство каким‑то озорством. А они же грабить выходят, как на большую дорогу!.. Знаете, я давно изучаю это явление. Меня интересует психология, переломный момент… Вся опасность в том, что вчера, у себя дома, на работе это были совершенно нормальные, порядочные люди! Не уголовники, не дебилы. Даже, наверное, симпатичные люди!.. Но лишь оказались на природе, с ружьем в лесу, на реке — инстинкты просыпаются, что ли?.. Звереют… Может, правда, инстинкты?
Сергей молча пожал плечами и сильнее сгорбился. В темноте вода казалась тихой, неслышной, но, если приглядеться, можно было увидеть, как вырываются из ее глубин потоки, взметывая стеклянную поверхность и закручивая ее в воронки.
— А мы уперлись в социальные причины, — продолжал уполномоченный. — Объясняем все ярлыками — рвачи, хапуги, жулики. Ведь надо на человека руку поднять! На человека!.. У себя дома он бы самой мысли испугался. А здесь, когда ружье в руках, когда у тебя отнимают добычу… Да еще обещают позор, неволю… Если это инстинкты, то, выходит, мы сами плодим браконьерство. И к убийству их толкаем мы. Тимофей Васильевич вспоминал прошлое, когда общественный невод держали… А мы подзабыли то время. Да, подзабыли, и пошли короткой дорогой — запретами пошли. Только что‑то длинновата выходит короткая дорога…
Он говорил скорее сам с собой, поэтому Сергей не очень‑то прислушивался, хотя улавливал смысл. И вообще создавалось впечатление, что на катере все шестеро собранных случаем людей живут сами по себе. Но все вместе будто в чем‑то провинились перед погибшими, и даже в глазах отца сквозь печаль просвечивала вина. Но в чем? В том, что их уже нет на этом свете, а им, шестерым, надо еще жить. Что бы ни вспоминал Сергей, всегда почему‑то приходило на ум детство: все какие‑то проказы, озорство, хулиганство. Взбалмошный какой‑то был он, Тимофей, да и родители ему позволяли и прощали больше, чем старшим. Из всех стремянских парнишек он был самым бойким. Дня не проходило, чтобы куда‑нибудь не залез, что‑нибудь не натворил, не выкинул. Шестилетним поплыл через речку и чуть не утонул. Хорошо, поднесло к сваям, на которых стоял мост. Уцепился, обнял осклизлый конец сваи и провисел на нем несколько часов. Хоть бы крикнул, позвал на помощь. Петруха Лепетухин, работавший на пароме, заметил его и снял… И сейчас Сергей вспоминал и, пожалуй, впервые в жизни как‑то выстроил в цепь и свел воедино все случаи, которые раньше казались нормальными, само собой разумеющимися и не вызывали особого интереса. Вдруг все являлось в другом свете и наполнялось другим, каким‑то символическим смыслом. Ведь приди это чувство раньше, и он бы, возможно, предугадал всю его жизнь. Но почему, почему человеческая жизнь видится вся целиком только после смерти? Глухие мы, слепые, что ли, пока жив человек? Или черствеет душа и своя жизнь всегда ближе, как своя рубаха к телу?
Всю ночь Сергей прослонялся по катеру, вполуха слушал уполномоченного, вполуха — негромкие разговоры лейтенанта с людьми на задержанных лодках и ловил себя на ощущении, что все это уже было. Но как бы ни мучил память, вспомнить, что дальше, не мог. Иногда он почти приближался, было совсем «горячо». Лейтенант с автоматом наперевес выезжал на перехват ночной лодки, и чудилось, сейчас загремят выстрелы, однако глох даже вой моторов и слышалась только негромкая, однообразная беседа. Точно так же не стреляла и память.
Утром Мишка Щекин вытянул самодельный якорь на веревке, и катер снова пошел вниз. Дождавшись первой встречной самоходной баржи, Щекин на ходу подчалился к ней, и лейтенант пошел на судовую рацию, узнать новости и распоряжения. Вернулся он скоро, грохоча сапогами, ворвался в рубку.
— Гони без остановок! Ниже землечерпалка стоит, лодку со дна подняли…
Под высоким яром стояли две баржи и плавучий кран, приспособленный для добычи и погрузки гравия. Кран бросал в воду раскрытый, похожий на цветок, четырехлепестковый ковш и, дрогнув стрелой, поднимал добычу, сваливая ее на палубу баржи. Мутная вода потоком стекала в реку.
— Ночью ребята подняли, — объяснил капитан землечерпалки. — Думали, опять ковш полетел, пустой идет, а там лодка… Бросить хотели, но моторист надпись увидел…
Лодка лежала на пустой палубе самоходки, ожидающей погрузки. На вид была почти целая, разве что ковшом слегка помяло борт. Однако лейтенант сразу же нашел в носовой банке, которая обеспечивала лодке непотопляемость, прорубленную топором дыру. Посудину бы наверняка сроду не нашли: замыло бы в песок там, где ее утопили, но убийцы второпях промахнулись. У такого типа лодок было еще две небольших банки в корме, и они не дали ей лечь на дно. Видимо, течением ее затянуло под яр, где добывали гравий. Только вот откуда? Речники с землечерпалки и самоходок уверяли, что близко от них ничего не случалось…
Скоро прилетел начальник милиции. Вертолет, покружив, опустился на палубу пустой баржи. Начальник обошел лодку, осмотрел ее, вынул из багажника корзину, в которой налипли молодые, но уже почерневшие лепестки колбы, мазутную фуфайку и несколько сетей. Затем еще раз осмотрел транец и сел на палубу, сняв потную фуражку.
— Все, искать их бесполезно, — проговорил он. — Если только сбудет вода… Да и то замоет…
Сергей нащупал руку отца. Отец был спокоен, стоял прямо, лишь таилась в его глазах необъяснимая вина…
— Они привязали тросиками моторы… — начальник милиции ударил кулаком по гудящей палубе, встал и вдруг с силой пнул свою фуражку. Фуражка улетела за борт и аккуратно приводнилась. Он вытер лицо пыльными ладонями и распорядился грузить лодку в вертолет. Затем подошел к Заварзину: — Мы с ним… Мы с ним были… — пробормотал он и вскинул голову. — Я найду этих сволочей! Клянусь!
Отец молчал. Только его сухая рука в руке Сергея сжалась в кулак. Он вздохнул, переводя дух, расслабился.
— Ищи… А нам домой надо. Дети там…
Сергей с отцом сидели в вертолете около лодки, будто возле гроба. Вой двигателей закладывал уши, и можно было стонать, не открывая рта, даже плакать, но без слез — никто бы ничего не заметил. А хотелось плакать по‑настоящему, как плакалось однажды в детстве на новогодней елке, но в замкнутом пространстве летящей над землей машины для этого не было места. И Сергей держался, потому что держался отец. Только на его натянутом горле почему‑то часто ходил острый кадык, словно он что‑то хотел проглотить и не мог…
25
Подъезжая к своему дому, Сергей заметил неожиданное безлюдье, распахнутые настежь ворота, пустые дворы и улицы, брошенный посредине дороги ящик с инструментами, какое‑то тряпье и рваные газеты. На миг возникло ощущение, будто население Стремянки, впопыхах собрав вещи, бежало из села, как бегут от чумы или извержения вулкана. С этим же чувством он остановился возле своего палисадника и, заглушив мотор, сразу уловил необычную тишину. Мимо с ревом пробежала корова, замерла на взгорке, по‑собачьи насторожив уши, и вдруг метнулась в проулок. Сергей вошел во двор и увидел раскрытые двери.
— Дед? — окликнул он, взбегая по ступеням крыльца. — Иона?
Все крыльцо оказалось залитым соляркой, а возле перил валялась на боку пустая канистра. Сергей подобрал ее и огляделся. Даже не входя в дом, он понял, что там никого нет. На всякий случай пробежал по комнатам первого этажа, поднялся на второй — пусто. В старой избе на окнах бились осы…
Сергей достал бадью воды из колодца, напился через край и, вытирая лицо полой куртки, прислушался. Стремянка словно вымерла, только где‑то в центре, у старой церкви, натужно и гулко мычала корова. Он заглянул в соседний двор, постучал в калитку — откуда‑то из‑за сарая вывернулся лохматый пес, но не залаял на чужого, а с визгом бросился навстречу.
— Где люди‑то? — сказал Сергей.
Пес скулил и терся о ноги, а когда Сергей двинулся дальше, волочился следом, пока он не вышел на центральную улицу, направляясь к церкви. И едва впереди стало видно пестрое скопление народа, едва послышался курлыкающий нестройный говор, как пес обогнал его и радостно залаял.
Возле церкви, где раньше устраивались мужские посиделки, вокруг пыльного микроавтобуса колготилась чуть ли не вся Стремянка. Издалека еще Сергей увидел женщину в белом халате, которая энергично жестикулировала, что‑то объясняя собравшимся, и порывалась сесть в кабину. Ее удерживали. Видны были красные потные лица, мокрые рубахи на спинах, детские головенки, старушечьи платки. Сергей прибавил шагу. В первых рядах односельчан был старец Алешка. Он размахивал клюкой, лез к машине, но мужики, подступая к женщине, каждый раз отжимали его назад. Мелькнуло возмущенное лицо Михаила Солякина. Чуть в стороне, заглушаемые хором голосов, о чем‑то яростно спорили братья‑близнецы. Какая‑то старуха отгоняла прутиком босоногого мальчишку. И тут же человек шесть мужиков, стоя у заднего бампера микроавтобуса, весело смеялись, а один вовсе сгибался пополам и вытирал слезы.
Женщине удалось было вырваться из толпы и закинуть ногу на подножку, из кабины несколько рук подхватили ее, но бойкая бабенка в косынке — жена одного из братьев Забелиных — уцепилась за белый халат, чуть ли не сдирая его с плеч.
— Жалуйтесь! — услышал Сергей пронзительный и утомленный голос женщины. — Хоть министру, хоть дьяволу! Меня не такие пугали!
— За сколько продалась? — орали из толпы. — За сколько тебя нефтяники купили?
— Справки! Справки пиши!
— Государство обязано купить больных пчел! — хрипло и жестко доказывал один из пчеловодов, потрясая кулаками. — Пусть не темнит! Законы знаем! Знаем законы!
— Что, с сумой по миру? Бабы, не пускай ее! Справки!…
— Вар‑р‑роатоз!
Старец неожиданно вырвался вперед и стал бить клюкой по машине. Шофер замахал на него рукой, мужики бросились старика оттаскивать, а женщина тем временем заскочила в машину и захлопнула дверцу. Двигатель взревел, сиренный вой клаксона оглушил собравшихся, но машина не тронулась с места. Мужики у бампера уже не хохотали, а, краснея от натуги, держали на весу задок микроавтобуса. Бабы лупили кулаками по обшивке.
Сергей остановился возле мальчишек на велосипедах, огляделся: Ионы не было.
— Пустите, люди! — фальцетом кричал старец. — Что вы? Что вы делаете?! Опомнитесь!
Мужики груза не удержали, кто‑то дрогнул, выпустил бампер, и колеса схватили землю. Машина ринулась вперед, люди брызнули в стороны. Какая‑то баба, подняв ком земли, метнула его в заднее стекло. Облако выхлопного дыма медленно поднималось над толпой.
Старца отпустили, вернее, на миг забыли о нем. Разгневанная толпа обернулась вслед уезжающей машине, и Сергей разом увидел лица своих земляков…
А в памяти встала другая картина. В семидесятом году пожары бушевали возле самой Стремянки. Вокруг села шелкопрядник был выпилен и распахана широкая минполоса, однако жители день и ночь дежурили у околицы, забрасывая землей и заливая водой принесенные горячим вихрем угли и мелкие головни. Стариков, детей и скот вывезли на другую сторону реки, крыши домов засыпали землей, за огородами выжгли старую траву, однако все равно то тут, то там вспыхивали пожары. Черные от копоти, потные мужики и бабы с ведрами, лопатами и баграми носились по селу от очага к очагу, иногда низовой воздушный поток был настолько жарким, что трещали волосы и дымились рубахи. Старухи за рекой, стоя на коленях, вымаливали у бога дождь. Сергей приехал на каникулы и угодил в пожарную команду. И вот однажды, когда они только что в одном конце Стремянки потушили задымившийся сарай, раздался крик, что горит кедровая кладбищенская роща. Когда‑то школьники спасли ее от шелкопряда, вручную засыпая отравой деревья, землю, могилы, так что несколько лет потом кладбище пахло дустом и хлоркой. Теперь через минполосу перекинулся огонь и занялись крайние кедры, деревянные ограды и кресты. Около ста человек, грязных, в изорванной и прожженной одежде, размахивая лопатами и баграми, бежали к роще. Сергей был в гуще этой толпы, видел только спины впереди бегущих, слышал густой ор и стреляющий треск горящей хвои. Народ вмиг запрудил кладбище, за несколько минут потушили ограду, кресты и вдруг остановились. Пламя проникло в кроны и, набирая силу, медленно разрасталось вширь. Уже пылали свечами несколько деревьев, роняя на землю белые хлопья пепла. Охваченные яростью, люди пытались сбить огонь, но комья земли не долетали — мышцы сводило судорогой. Кто‑то потом догадался принести мотопилы и валить горящие кедры. Но пока за ними бегали, замерший в ярости народ стоял не шелохнувшись, и факелы горящих деревьев отражались в глазах…
Позже, вспоминая те минуты, Сергей ощущал какой‑то восторженный прилив гордости. Хотелось крикнуть громко — это мой народ! Он побеждал и будет побеждать всегда!
Сейчас Сергей видел эти же лица, только сквозь сизый выхлопной дым нельзя было рассмотреть выражение глаз… Мужики, державшие машину, откровенно веселились, с трудом распрямляли затекшие пальцы.
— Люди! — закричал старец Алешка и поднял над головой горящий фонарь. — Что вы собрались да стоите? Что вы ждете‑то?
— Дед, а давай спляшем! — закричали весело мужики. — Ну‑ка, покажем, на что вятские мужики годятся!
— Отойдите, лешаки! — старец махнул впереди себя клюкой. — Свет застите!.. Что вы прилипли‑то, мужики! Разве не видите, солнышхо совсем уж не светит, совсем тусклое сделалось. Уходить надо отсюда, уходить! Чего вам держаться? Земля не родит. Или все Егорку слушаете? А совсем темно станет, как жить‑то будете?
— Уберите старика! — крикнул кто‑то. — Нашли потеху!
Сергея словно подхлестнули. Он огляделся и пошел к Алешке, расталкивая мужиков, взял его под руку, потянул, однако тот дернулся, отмахнулся костылем.
— Не мешай, когда с народом говорю! Отойди!.. Ведь померзнете к лешему! Глаза‑ти разуйте, без фонаря и выйти нельзя, экая темень! Ойдате за мной! Я знаю, куда идти! Я вас выведу. А Егорку не слушайте, обманет!
— Пойдем, Семеныч, — Сергей все тянул Алешку и оглядывался. — Над тобой же смеются, пойдем!
Он уже не видел отдельных лиц, не узнавал никого. Толпа, поредевшая было, теперь вновь сгущалась к центру. Кажется, кто‑то плясал за спиной…
— Куда идти? Куда идти теперь, дед? — раздавались чьи‑то голоса. — Все, отпанствовали! Туши свет! А где Ревякин?
— А куда я пойду — и вы за мной! — призывал старец, машинально сопротивляясь: вздулись и окостенели дряблые мышцы, повлажнела рубаха. — И фонарем, фонарем светить буду. Вы на свет‑то ступайте, не потеряетесь! Ойдате, ойдате, мужики! — И шарил невидящим взглядом по головам и лицам людей. — Ойдате! Баб с ребятишками берите! Ведь пропадете без меня, лешаки! Я фонарем‑то…
— Домой, домой! — твердеющими губами повторял Сергей. — Это же я, Сергей. Послушай меня!
Старец не узнавал. От возбуждения он покраснел, и седая борода казалась белой как снег, на кадыкастом горле вздулись жилы, и только блеклые глаза оставались мутными, в серой накипи.
— Да отпусти ты деда! — дернули Сергея за руку. — Ну‑ка, дедок, тряхни стариной! Вон гармошку несут!
Сергей отбил чью‑то руку, выпустил старца.
— Вы что, слепые! — закричал он, боясь, что не докричит — кривился рот. — Брата убили!.. Поскребыша, Валю убили!.. Дети остались… Вы что?..
И, уже не видя ничего, не чувствуя рук своих, он схватил старца в охапку и пошел, куда глаза глядят.
Старец барахтался, размахивая фонарем, и все еще кричал — то ли ругался, то ли звал…
В тот вечер, когда у Заварзиных сожгли пасеку, Иона ночь просидел возле пепелища в обнимку с Артюшей. Он жаловался стремянскому дурачку на свою жизнь, однако тот не понимал и все звал взять ружья, зарядить медными пуговицами и пойти стрелять оборотней.
— Артюша, ты погоди, — уговаривал он. — Ты послушай меня. Моей жизни никто не знает, никто не видит! А она ведь есть! И какая была, Артемий!..
Ему вспоминалось время, когда Стремянский леспромхоз был в самом расцвете. Тайга кругом была еще зеленая, особенно по утрам. Поднимающееся солнце подсвечивало деревья как бы снизу, и в неярких лучах лес сам начинал светиться. Какая красота мчаться на мотовозе в такие минуты в предчувствии целого дня горячей и какой‑то отчаянной работы. Бригада вальщиков с «Дружбами» расходилась по лесосеке, но еще несколько минут висела звонкая тишина — курили, приглядывались к деревьям, выбирая, какое куда валить. Обреченные кедры ни о чем не подозревали, что‑то щемило в душе, порой возникал легкий страх, знакомый тем, кто валил большие деревья. «Ты столько лет стоял здесь, но пришел я и срублю тебя!» — как бы мысленно разговаривал с ними Иона, отгоняя или давя в себе испуг. А тем временем по всей лесосеке почти разом взвывали мотопилы, голубые султаны дыма вонзались в зелень и висели в недвижимом воздухе, пока не падал на землю первый кедр и кроной своей не поднимал ветер. И мгновенно отлетал страх, вместе с грохотом и ветром душа наполнялась какой‑то яростной удалью и отвагой. Он ничего уже не видел, кроме свистящей цепи на полотне мотопилы, веера тугих опилок и крепкого, мощного тела дерева. И не чувствовал ни таинства утреннего света, ни запаха молодых кедровых шишек — только вибрацию рукояток в руках и сладковатый привкус выхлопного газа. Кто‑нибудь кричал присловье, оставшееся на устах со времен веревочных заготовок:
— Крути, верти, наматывай! Медали зарабатывай!
Иона вырезал клин, указывая дереву, в какую сторону падать, и, закусив губу, опиливал его по кругу..
Бывало, что дерево, опиленное со всех сторон на всю глубину полотна, оставалось стоять даже не дрогнув. То были кедры с крупной сердцевиной. И тогда приходилось драться с ними, вырезать большой кусок их тела, чтобы дотянуться жалом пилы до самого нутра. А если под руками был трактор, то вокруг кедра заводили трос и доламывали его, ссаживая с «постамента».
Бог весть какой памятью Иона помнил все сваленные деревья…
На лесосеку часто приезжал директор леспромхоза Солякин. В то время многие начальники уже носили костюмы, рубахи с галстуками, а он ходил в скрипучих хромовых сапогах, в синих галифе и кителе с глухим воротом; зимой надевал бурки, серую папаху, отчего уши на морозе торчали как два красных фонаря, и тужурку‑москвичку. И именно в таком одеянии он казался Ионе олицетворением начальника. Иона не лез на глаза, смотрел обычно со стороны и про себя восхищался. Ему нравилось все в Солякине: как он ходит, как говорит и смеется и что ездит не на «эмке», а на паре горячих выездных коней в черной кошеве.
После армии, когда Иону назначили бригадиром вальщиков, он долго носил военную форму без погон, пока та не потрепалась, не засалилась от кедровой смолы и мазута, — бригадир был таким же вальщиком. Но не прошло и года, как он стал техноруком и справил‑таки себе хромачи с синими галифе, однако надевать пока стеснялся. Несколько раз, собираясь утром на работу, Иона обряжался в обнову, смотрелся в зеркало, прогуливался по избе, скрипя сапогами, затем переодевался в потрепанный пиджак, натягивал кирзачи и выходил на улицу.
Когда на стремянскую тайгу обрушился шелкопряд, догола раздел лес и, можно сказать, раздел враз обнищавший леспромхоз, Иону назначили начальником лесоучастка, созданного в Стремянке. Ему достались по наследству выездные солякинские жеребцы, черная кошева и брусовая контора. Наконец‑то он отважился выйти в форме на люди. Поначалу казалось, дела пошли на поправку, Иона мотался на лошадях по лесосекам, где теперь рубили дровяник, бодрил мужиков:
— Крути, верти, наматывай! Медали зарабатывай!
Нашел выгодное дело, — валить осинник для областной спичфабрики, потом организовал цех тарной дощечки и штакетника, думал развернуть производство лыжной болванки — кое‑где были рощи березняков, однако, сколько бы ни маялся, сколько бы ни досаждал начальству, труд его выглядел спичкой по сравнению с когда‑то известным стремянским карандашом.
— Заварзин, ты с такой прытью и кусты вокруг Стремянки повырубишь, — увещевало начальство. — Оставь хоть пару веток, а то воронам гнезда вить негде!
Скоро его перевели в город главным инженером лесокомбината и еще через год сделали директором. Сдавая дела, старый директор наконец обратил внимание на вид Ионы.
— Послушай, Заварзин, что у тебя за старорежимная форма? — спросил он. — Пора, пора снять. Ты погляди, кто теперь так ходит? Привыкай помаленьку к цивильной одежде, как ни говори, директор. Теперь новый тип руководителя, понял?
Иона робел перед вчерашним начальником, которого переводили на высокую должность в управление. И уже сам стеснялся своего вида. Но будто из счастливого детства стоял в памяти директор Солякин — ладный, красивый и всемогущий. Перед ним трепетали даже бывшие зеки, ссыльные и вербованные.
— А новый тип — это демократичность, — поучал бывший директор. — Это костюм с иголочки, такт, уважение к человеку. И чтобы в сейфе коньячок стоял. С лимончиком. Понял?
Весь след ующий день после разорения пасеки Иона проспал на чердаке, насквозь провонял хлоркой, запах которой невозможно было ни отмыть, ни отшибить крепким одеколоном.
Под вечер он переоделся в костюм‑тройку и пошел пешком в Стремянку. Однако на полдороге его встретил Сергей.
— Поскребышка с Валентиной убили, — сказал он.
Иона сел к нему в машину и тупо уставился на черную панель.
— Это рок… Рок над нами висит!
— Поехали домой. Там Алешка один, да и посоветоваться надо… Дети остались.
Иона попросил остановить на окраине села, вышел из машины и направился в сторону Запани.
— Погоди! — крикнул Сергей. — Куда ты?
В Запани было полно милиции — проверяли сезонников, съехавшихся на сплав. Иону тоже остановили, но рядом вовремя оказался дядя Саша Глазырин.
— Ты к ней не ходи сейчас, — сказал он. — И вообще, забудь пока. Потом, мы с тобой потом…
— А мне все равно! — отрубил Иона. — Я больше не могу.
Катерина была дома, как всегда в это время, сидела за рацией и диктовала в микрофон какие‑то цифры.
— Катерина, выходи за меня, — сказал он прямо и сразу. — Брата убили…
— Нет, Иона, — вздохнула Катерина. — Зачем ты мне такой?
— На моего отца глаз положила? — сурово спросил Иона. — На старика? Ты же меня без ножа режешь! Я только жить начал, пить бросил!.. Не пойдешь, и я умру, как брат мой.
— Ты не умрешь, — вздохнула Катерина. — Ты долго жить будешь… Послушай, Иона Василич, иди и больше не попадайся мне на глаза.
— Так не пойдешь? — он выпрямился. — Ну, гляди, Катерина. Я на твоей совести буду!
Он скрипнул зубами, секунду постоял, держась за голову, затем стремительно вышел на улицу. С визгом отлетела калитка и, покачавшись маятником, осталась полуотворенной.
Иона пришел к запани — устью реки, запруженному молевым лесом, спустился к воде. Наплывали легкие сумерки, однако пылающий закат еще освещал деревянное месиво и редкие окошки чистой воды. И в этом красноватом свете лес в запани казался сбитым, связанным в крепкий плот, чем‑то похожий на деревянный мост. Иона сел на обсохшее бревно, потрогал воду рукой. Вода была еще холодная, жирноватая, как остывшие помои, и пахла еловой смолой. Он вытер руку о штаны, зубами сорвал закупорку с бутылки, налил полный стакан, бутылку заткнул сучочком. Пить сразу не стал, поставил водку перед собой на бревно и замер, сцепив на коленях руки.
Вспомнилась детская забава: они, подлетыши лет по пятнадцать, уже драчливые, как молодые петушки, но еще без царя в голове, приходили в запань, чтобы бегать по бревнам. Если ты ловкий, подвижный и сильный, если не тетеря и душа у тебя в пятки не уходит, то можно, ни разу не искупавшись, перебежать реку туда и обратно. Только нигде не дрогнуть, не остановиться на вертящемся и скользком бревне — только бежать вперед, интуитивно выбирая путь. Иначе обглоданная льдом, водой и камнями лесина, тяжкая от воды и мылистая свержу, вмиг опрокинет тебя, вывернувшись из‑под ноги, и тогда ты сам окажешься под лесом, как под крышей. И если успеешь вовремя сориентироваться, и если ты не треснулся головой о сутунок — еще не все потеряно. Потом, конечно, будут и смеяться над тобой, и дразнить, поскольку унижение ближнего — самоутверждение, но останется жизнь.
За время существования сплавного рейда и запани парнишек за этим занятием потонуло человек пять. И никого из них не нашли. Из‑под леса, как из‑подо льда, вообще трудно что выудить. И темно под ним так же, как подо льдом…
Стакан стоял на бревне, чуть краснея от закатного зарева. Жидкость, сомкнув края посуды, слилась со стеклом, и определить было невозможно, полный стакан или пустой — настолько чистая и прозрачная была водка. Иона понюхал, подняв стакан, примерился выпить, но тут же поставил.
«Может, не начинать? — мелькнула мысль — Ведь столько лечился…» И тут же решил: снявши голову, по волосам не плачут. Он залпом выпил, перетерпел горечь. Водка была холодная, как вода в реке, и почему‑то круто соленая. Из морской воды ее делают, что ли? Или считают, что для бичей‑сезонников любая пойдет, травят народ…
Новый тип руководителя из него не получился. Кажется, было все: с бичами и лодырями разговаривал мягко, насколько нервы терпели, перевоспитывал пьяниц без крутых разговоров и жестокости, иногда, засучив рукав, сам показывал, как надо работать электропилой на раскряжевке. Однажды, чтобы доказать начальнику участка, что тот зря получает деньги, отработал целую смену и сделал двойную норму, когда работяги и одной не вытягивали. И долго после этого ощущал какую‑то светлую радость, приятную боль в мышцах и гордость.
Все было, коньяк в сейфе не кончался, лимоны двух видов — свежие и засахаренные. Однако новый тип все равно не вышел, и он лучше, всех понимал, что не выйдет. Надо было хитрить и изворачиваться перед начальством, чтобы достать технику и запчасти, перед рабочими, которые брали за глотку — дай большую зарплату, дай премию, квартиры, сократи норму. И попробуй скажи прямо — не дам, потому что лодыри: немедленно пойдут письма и жалобы. И придется писать десятки объяснительных, получать выговора и слушать упреки, что он не чувствует времени, что он руководит по старинке, только волевым методом, а это неуважение к рабочему.
Он ничего не мог сказать в ответ, по‑прежнему робел перед высоким начальством и ощущал желание спрятаться. Зато, вернувшись в свой кабинет, он запирался на ключ, доставал коньяк и пил без лимонов. А потом смелел, говорил все, что думает.
— Это разве рабочие? — спрашивал он. — Рабочий должен работать! А эти тунеядцы пьют и спят на работе… Распустили народ, демократы! Развратили рабочего! А человек обязан трудиться, иначе он не человек.
И вспоминал благодатные времена Стремянского леспромхоза, а потом лесоучастка, вспоминал скрип сапог, выездных горячих жеребцов и вожжи, которые сам держал в руках…
Иона выпил еще, поболтал остатки и с силой метнул бутылку в реку. Юзанув по лесинам, бутылка поскакала к другому берегу, словно плоский камешек, которым снимают «блинчики».
— Это вам, рыбы! — крикнул он. — На помин души!
Ощущая, как горячая волна первого опьянения охватывает голову и тело, он встал на сосновый кряж у берега, осмотрел запань. Лес шевелился на сильных речных струях, бревна бодались, толкали друг друга, теснили, а то и вовсе топили в темной воде; изредка слышался глухой стон или звон, похожий на радостный человеческий возглас. На глазах Ионы редкостный теперь кедровый сутунок ткнулся в берег и, вспахивая песок, пополз вверх. Пачка елового тонкомера‑крепежника, упершись в кедр, выдавливала его из воды.
— Ведь пробегу! — крикнул он. — Только разуюсь, и на той стороне.
Он скинул ботинки, подвернул штанины и для начала ступил на кедровый балан, однако вершина его потонула, и, чтобы не упасть, Иона прыгнул на еловую пачку.
— Пробегу! — смиряя внутреннюю дрожь, сказал он. — Вброд перейду!
И побежал.
Бревна, позванивая, уходили под воду, однако он успевал перескакивать, стремительно и безошибочно угадывая, куда поставить ногу. Казалось, ветер свистел в ушах, враз полегчавшее тело было подвижным и чутким, так что он даже не думал, как держать равновесие. Бревна выныривали позади него и долго, возмущенно крутились на одном месте.
Он помнил, что нельзя отвлекаться и думать о чем‑то, но не стерпел. «Хорошо‑то как! Хорошо! — про себя восклицал он, и дыхание дрожало от восторга. — Крути, верти, наматывай!..»
Приближалась середина реки, лес пошел крупный, устойчивый, можно было даже остановиться и перевести дух. Он выбрал толстую сосну, в несколько прыжков достиг ее и встал, широко расставив ноги. На той стороне щетинились обглоданные ледоходом тальники. За ними, на зеленеющем угоре, в вечерней дымке что‑то прыгало и колыхалось — может, стадо коров, табун лошадей, а скорее всего накатывалась волна теплого ветра и шевелила кустарник. Весь тот берег, казалось, светился от заходящего за его спиной солнца, от нагретой земли поднималось марево. Иона вздохнул глубоко, намереваясь скакать дальше, и вдруг увидел с обеих сторон своего бревна полоски чистой воды, закрученные стремниной. Они были узкими — сколько он перемахнул таких, пока достиг середины! — но от сильного, пучащего воду течения закружилась голова. Он присел, уцепившись руками за шершавую кору, сосна качнулась, норовя опрокинуться.
— Вот и хорошо, — вслух подумал он. — И концы в воду… Тимофей, братка, встречай.
Привстав на дрожащих ногах, Иона прыгнул в «окно», ушел с головой, но руки сами вцепились в какое‑то бревно и вырвали тело на воздух. Еловый крепежник под грузом потонул, Иону понесло под плотный бревенчатый край «окна». Он успел развернуться к нему лицом, схватился руками, однако ноги уже завело под лес и тянуло самого.
И только сейчас он ощутил холод весенней воды, увидел тот берег, что недавно покинул, — крышу домика и антенну Кати Белошвейки, свет невидимого за берегом солнца. Вмиг отрезвев, он забарахтался и полез на спасительные бревна, которые тонули под ним и совсем не держали тяжести тела. Как назло, рядом не было ни единого толстого дерева, к тому же намокший пиджак и жилет стесняли движения. Замерев на мгновение, он резко свел плечи и ощутил, как ткань расползлась на спине и враз, освободила руки…
Он плохо помнил, сколько времени пробивался к берегу: молотил воду кулаками, карабкался по бревнам, дважды пытался встать на ноги, выбрав деревья потолще, и дважды уходил с головой в чернеющую пучину. И все это словно на одном дыхании, на одном порыве.
Когда он наконец выбрался на берег и упал на откос — понял, что оказался на другой стороне: в окнах Запани уже горел далекий свет, лес на воде растворился в сумерках, и слышалось лишь его глухое шевеление.
Иона потрогал гудящий от напряжения трос, приложил к нему ухо: так слушали в детстве, когда становилось неинтересно рисковать и бегать по бревнам. Озноб колол спину, деревенил мышцы, чакали зубы. Он разделся, выкрутил одежду, снова натянул на себя, однако тепла не прибавилось, наоборот, стало холоднее, колотило так, что дергалась голова. Тогда он поднялся на берег, на тот самый зеленевший при дневном свете, а теперь темный угор, и стал бегать вокруг железобетонного мертвяка…
26
Дети знали и понимали все, может быть, чуть больше, чем окружавшие их взрослые. Они почти не плакали, за исключением поскребышка. Однако стали какие‑то тихие, и если играли в свои детские игры, то негромко, без шалости, и все время старались держаться кучкой. А когда случалось, что кто‑нибудь исчезал из виду, всего лишь на минуту, все бросались искать его, найдя, брали терявшегося за руку и долго не отпускали. Они играли во дворе, на крыше сарая, в непаханом еще огороде; играли в догонялки, в классики, в чехарду, но только не в прятки, потому что старшенькая запретила, и никто с ней не спорил, хотя раньше играть любили. Голящий должен был оставаться один, а им в это время хотелось быть всем вместе. Да и страшно было оставаться одному. Поиграв, они бежали в избу — глянуть на младшенькую, которая не слезала с бабкиных рук, и потом снова возвращались на улицу. В избе было неуютно и больно: бабушка в окружении соседок и подруг без конца выла.
— Ой, сиротинушки мои горемышные! Ой, да на кого вас батюшко с матушкой‑то покинули! Ой, да что они наде‑елали‑и…
Младшенькая подтягивала ей и жалобила бабку еще больше. Сбежавшиеся с округи старушонки хлюпали носами, морщили и так морщинистые лица и, когда жалость перехлестывала через край, причитали все, хором. Дети слышали это и уходили подальше, в конец огорода, где по залогам рос прошлогодний паслен, достоявший до весны. Девчонки рвали ягодки, делили их на всех поровну и ели.
— Баба воет, — говорила Дарьюшка. — Папка плиедет — плотокол составит. Я маленькая — не вою, она болсая — воет.
— Папка не приедет, — серьезно говорила старшенькая. — И мамка не приедет. Их браконьеры убили.
— А баба сказала, они на небо улетели, — грустно промолвила вторая по счету, Анечка. — Потому что они ангелы безгрешные.
— Ангелов не бывает, — сказала старшенькая. — Все это бабушкины сказки. Нам в школе говорили.
— Ну тогда они стали крылатые и просто улетели, — нашлась Анечка. — И теперь их браконьеры ни за что, ни за что не найдут.
— У меня все сопли текут, текут, — пожаловалась Наташа. — Ессе замуз не возьмут. Нос какой‑то худылявый.
Если мимо их двора проезжала машина или проходили люди, они, где бы ни находились, бежали к воротам, висли на заборе и смотрели сквозь щели. А когда над головой пролетали птицы или самолеты, они задирали головенки и тоже смотрели за ними. Дарьюшка каждый раз падала на попку и махала ручкой:
— Ой, голова клузитца! Не могу плям…
Заварзин, послушав причитания сватьи, выбрал подходящую минуту, когда дети были на улице, и попросил, чтобы она не плакала и упаси бог не называла девчонок сиротками. Сватья обиделась и даже заругалась на Василия Тимофеевича, дескать, сам слезинки не прольешь и мне запрещаешь. Я по зятю плачу, по доченьке своей, а ты ходишь — дундук дундуком, и будто сына тебе не жалко, детей — сирот круглых. Он попытался втолковать сватье, что сейчас слезами горю не поможешь, что надо думать, как дальше жить, как детей поднимать. И если все сейчас в рев ударятся, то кто же за ребятишками, станет смотреть? Похоже, сватья в тот раз ничего не поняла…
Василий Тимофеевич подогнал к воротам большой грузовик, выпрыгнул из кабины и сразу попал в руки девчонкам. Они ухватились за руки, за полы пиджака; старшая повисла на шее, уцепившись сзади, а Дарьюшка протянула руки:
— Хоцю на луцки, хоцю на луцки!..
Заварзин поднял ее на руки и услышал в избе сватьины причитания.
— Баба воет, — объяснила Дарьюшка. — Ты усол — она воет…
— Сейчас, — сказал Заварзин. — Поиграйте пока…
Он вошел в избу и, не обращая внимания на соседских старушек, поднес сватье кулак:
— Видала? Еще раз услышу — не возьму! Одна тут останешься!
Старушки разом умолкли, моргали вытаращенными глазами и дыхнуть боялись. Сватья тоже оборвала вой на середине своей причети и замерла с открытым ртом.
— Хватит нервы трепать! — добавил Заварзин. — Все! Пикнешь еще — так тут и будешь… Чтоб про сиротство больше не слышал!
— Ой, что ты говоришь‑то, Василий? — испугалась сватья. — Одну не оставляй! Я ведь с ума сойду, одна‑то!
— А ты своим воем и меня, и ребятишек с ума сведешь! — отрезал Василий Тимофеевич. — Грузиться надо! Машину пригнал…
— На ночь‑то глядя… — начала было сватья, но прикрыла рот.
— Нельзя здесь больше оставаться, — тихо проговорил Заварзин. — Ребятишкам тяжело; стены эти…
Он вышел на улицу и сообщил девчонкам, что сейчас они будут грузиться и поедут. Дети обрадовались, в печальных глазах мелькнул маленький отблеск восторга. Дарьюшка запрыгала на одной ножке.
Заварзин постоял с шофером у калитки, покурил, дожидаясь грузчиков. Пришли два уполномоченных с Твердохлебовым и начали выносить вещи на улицу. А вещей‑то, по стремянским масштабам, и было, всего ничего, кроме детских кроваток, зыбок да ребячьей одежонки. Был, правда, сватьин сундук, бог весть чем набитый, изъезженный снегоход «Буран» и машина, когда‑то подаренная Заварзиным и тоже почему‑то неисправная. Василий Тимофеевич покопался в моторе, но так и не завел ее. Пришлось брать на буксир. Тем временем мужики сделали сходни и начали заводить двух коров. Коровы ревели, упирались, таращились на людей набухшими кровью глазами, и собравшиеся старушки тихонько плакали. Годовалого бычка и теленка со свиньей пришлось затаскивать волоком. Потом из плах соорудили загородку в кузове и погрузили вещи. Сватья вышла из избы последней, с поскребышком и иконой на руках. Присели перед дорогой кто где, и даже слегка возбужденные ребятишки притихли. Заварзин все поглядывал на улицу: должен был приехать Сергей. Не то всех ребятишек в «Волгу» не усадишь, тесновато будет, а в Тимофееву машину на буксире сажать опасно…
— Я хоть с соседями‑то попрощаюсь? — пугливо спросила сватья.
Заварзин молча взял с ее рук девчушку. Та с любопытством выглядывала из ватного одеяла и ворочалась, стараясь высвободить ручку.
— Что ты ее завернула‑то эдак? — сердито спросил Заварзин. — Не зима же… Ну‑ко, давай ручки вытащим! Вот так!
Девочка взмахнула вольной рукой и немедленно засунула свои пальчики в рот Заварзину. Старшие девчонки окружили их, наделали из пальцев «коз» И стали «бодать» последыша. Дарьюшка прикосолапила к Заварзину и осторожно пропихнула головку под его руку…
Соседи провожали их тихо; сватья прощалась с оглядкой и шептала, предупреждала своих подружек, чтобы не плакали.
— Не любит он, уж молчите…
— Ишь, сам хоть бы слезинку уронил и другим не дает, — ворчали старушки. — Крепкосердый, должно быть, сват‑то у тебя… Ой, достанется тебе, девка.
— Дак теперь жизнь такая у меня, — косясь на Заварзина, шептала сватья, но из‑за глухости — громко. — Раз горе такое — как скажет. Ведь без него‑то как? Эдакая орава… Сами‑то упокоились, а нас мучиться оставили.
Заварзин не выдержал: похоже, назревал всеобщий рев. Жалость выплескивалась через край.
— Ну все, хватит! — приказал он. — Садись в машину!
Сватья расцеловалась со старушками и потрусила к «Волге».
В это время подъехал Сергей. Детей рассадили в две легковушки, меньших обложили подушками, чтобы не бултыхало на разбитой дороге, но тут заволновалась старшенькая:
— Ой, а рассаду‑то, рассаду! Ведь уж взошла хорошо и большая…
— Некуда рассаду, — вздохнул Заварзин. — Да и темно уже…
— Мама посеяла, — тихо сказала старшенькая.
— Пойдем, где она? — Василий Тимофеевич покружился по двору, нашел ящик. — Раз мама сеяла — пускай растет.
Они стащили половики с парника, завернули пленку и стали копать рассаду. Одного ящика не хватило даже на капусту, а еще двести корней помидоров… Заварзин вернулся во двор и увидел возле ворот красный «Москвич». Катя Белошвейка уговаривала Сергея пересадить к ней в машину двух детей.
— Нам не тесно, — сказал Заварзин. — Уезжай, Катерина. Я тебя не просил помогать, уезжай.
Ребятишки таращились на них, и сквозь задние стекла белели их настороженные лица.
— Дождешься от тебя, — Катерина блеснула глазами. — Ты с ума сошел, Василий. Ты детей взял, а за ними уход…
— Все! — отрезал он. — Это мои дети, управлюсь!
Прихватил пару ящиков и направился было в огород, но вернулся, опустил голову.
— Если можешь, увези рассаду… Валя сеяла, пропадет.
— И за это спасибо, — бросила она и взяла из его рук ящики. — Хоть рассаду доверил.
Наконец все собрались, расселись по машинам, и Заварзин махнул рукой шоферу грузовика. Гомонящие ребятишки разом стихли, кажется, дышать перестали. Только Дарьюшка закричала:
— Поехали! Поехали! Ула‑а!..
Василий Тимофеевич обернулся. Девчонки стояли на заднем сиденье на коленях и, сомкнувшись головенками, смотрели сквозь стекло на уплывающий дом…
Чтобы согреться, Иона бегал вокруг мертвяка, часто спотыкаясь о трос, и не чувствовал боли, пока не увидел в кровь разбитые пальцы на ногах. Однако согреться так и не смог, хуже того, обвязывая порванной рубахой ступни, понял, что не высидеть ему ночи на голом берегу: стоило лишь на минуту остановиться, как начинался жгучий озноб и трясучка. Тогда он вспоминал, что где‑то рядом проходит дорога — гладкая, накатанная полевая дорога вдоль берега, по которой они в былые времена ребятишками играли в «поп‑гонялу». По ней не то что босиком — боком катись.
Иона кое‑как забинтовал раны на ногах, ступил в сторону от мертвяка и тут же потерял его из виду. Опустившись на четвереньки, он стал щупать землю руками, боясь пропустить в темноте колеи, и скоро впрямь наткнулся на дорогу. Только давно неезженная дорога уже заросла травой, покрылась муравьиными кочками и кротовыми ходами, однако все, же просматривалась далеко вперед. Он побежал неторопко, трусцой, постепенно разогреваясь и набирая скорость. Он старался не думать, что впереди целая ночь такого бега, а под утро станет еще холоднее, поэтому вспоминал, как играли в поп‑гонялу.
Сейчас Иона трусил по знакомой дороге и чувствовал одышку, хотя пробежал всего с километр. Воспоминания привычной ребячьей игры, в которой запросто покорялись и бревна в запани, и расстояния, почему‑то теперь сбивали дыхание, ослабляли мышцы — видно, слишком велик был контраст, и он, сегодняшний, казался себе грузным, неповоротливым, бестолковым. Над такими в детстве смеялись, таким было тяжко жить среди мальчишек. А хочешь стать своим, наравне со всеми — сгоняй жир, тренируйся, выкладывайся. Пусть даже не выходит на первый раз, пусть отстал, но беги до конца, падай полумертвым, и тогда кое‑что тебе простится. Такова мудрость и великий смысл ребячьей игры…
В какой‑то момент Иона заметил, что не глядит под ноги, не выбирает путь, но и не спотыкается: ноги начали узнавать дорогу. Он сбежал с пригорка, и низинка показалась знакомой, однако пока не врюхался в длинные лывы, не мог узнать ее. Когда из‑под ног полетели грязь и брызги, он вспомнил и, вспомнив, замедлил шаг.
Это здесь было то самое поле в двадцать гектаров, на котором овес ушел под снег. Это здесь вся Стремянка от мала до велика по щиколотку бродила в раскисшей земле и руками срывала колосья…
Дорога то уводила Иону в поля, то выходила на самый берег, и он незаметно для себя привык к бегу, к ночному сумрачному лесу и кустарникам по обе стороны. Он забыл о холоде, потому что разогрелся уже до пота, и лишь мокрые, деревянно шуршащие на ходу брюки напоминали о всем происшедшем. Наверное, он так бежал бы и еще, пока не кончится дорога, однако в очередной раз, когда колеи вплотную приблизились к реке, вдруг увидел на другой стороне огни, много огней. Это было так внезапно, что он остановился, теряясь в догадках.
Иона точно знал, что выше по реке километров на двадцать нет ни одной живой деревни. А тут светилось целое село — фонари на столбах, какие‑то прожекторы и окна. Ожгла мысль, что он заблудился и ноги привели черт‑те куда. Не мог же он пробежать двадцать километров.
Дальше он двинулся шагом, разглядывая дорогу и реку. Река в этом месте была узкая, зажатая с двух сторон материковыми берегами, и приближающиеся огни, казалось, висят над самой водой. Поравнявшись с ними, он попытался рассмотреть дома или хотя бы общий контур деревни, но яркий свет слепил и заметны были только отдельные крыши. И крыши эти казались незнакомыми.
Ниже всех огней, у самой воды, он увидел костер: красноватое пламя маялось под ночным бризом и отражалось в реке. «Там же люди! — осенило его. — Раз костер горит…»
— Эй, кто‑нибудь! Люди! — крикнул он.
Голос на реке показался громким и звучным. Кто‑то ходил у костра — свет его на миг заслонился.
— Дайте лодку! Перевезите!
— Кто там? — спросил невидимый человек.
— Да я это, я! — обрадовался Иона. — Заблудился!
Он ждал затаив дыхание. На той стороне брякнула цепь и через минуту заскрипели уключины.
— Навезли вас, бичей, — ворчал человек в лодке. — Нажретесь и дурью маетесь по ночам… Хозяева, в бога мать… Как щенят бы вас, камень на шею…
Иона дрожал от радости, как недавно от озноба.
— Это какая деревня? — спросил он. — Как называется?
— Во, — выругался мужик. — Ты откуда такой? С Запани, что ли?
— Я из Стремянки! — закричал Иона, хотя лодка уже была рядом. — Из Стремянки я!
Расставив руки, он подождал лодку, вцепился в ее нос и неловко полез через борт.
— Опрокинешь! — прикрикнул мужик. — А чей ты, из Стремянки?
— Заварзин, — сказал Иона. — Василия сын…
— Какой Заварзин? — оживился мужик и перестал грести. Лица его не было видно, только светлеющее пятно.
— Иона я, большак.
Брошенные на воде весла тихонько шевелились сами собой, ледку несло вдоль берега. Мужик сидел, опустив руки.
— Убили, значит, Тимофея‑то? — спросил он наконец. — Вместе с женой, значит…
— Убили, — ощущая резкий озноб, вымолвил Иона.
— Осиротили детей, сволочи, — мужик достал портсигар, зажег спичку, и при ее мимолетном свете Иона увидел лысеющего человека с тяжелым лицом. — Что с ребятишками‑то решили?
— Не знаю, — признался Иона.
Мужик несколько раз глубоко вздохнул, затянулся папиросой, освещая лицо, однако Иона так и не узнал его. Лодку развернуло носом к деревне, огни пропали за спиной, и лишь запечатленные зрением пятна их стояли в глазах. Мужик резко выплюнул окурок и решительно взялся за весла.
— А что тебя носит‑то здесь? — с прежним недовольством спросил он. — Дома горе такое…
— Намок я, заблудился, — пробормотал Иона. — Это что за деревня?
— Яранка…
Иона привстал, качнул лодку.
— А огни? Ведь тут и нет никого…
— Погляди теперь, нет! — зло ответил мужик. — Наехали, паразиты…
И замолчал, громко сопя и взбуравливая веслами воду. А Ионе хотелось говорить, рассказывать, только он не знал, с чего начать. Лодка ткнулась в берег у самого костра, так что брызги попали на угли.
— Ты что же, мокрый насквозь? — вдруг спросил мужик. — Рваный какой‑то… Грейся давай! Замерз?
Иона прильнул к огню, мгновенно окатившись паром, затем сел на пустой ящик и вытянул ноги. Повязки где‑то слетели, но ссадины уже не кровоточили.
— Как ты считаешь, бог есть? — спросил Иона.
— Чего? — недобро протянул мужик.
— Бог, говорю, есть?.. Он спас меня сегодня. В запани чуть не утонул… Теперь вот ты на берегу очутился.
— Сам себя спас, — буркнул мужик. — Если б по воле божьей, так бы не изгваздал костюм‑то…
Только теперь Иона разглядел, что пиджак и жилет изорваны в клочья, из дыр на плечах торчал рыжий ватин. Светились белые колени. Мужик примкнул лодку.
— Чего тебя в запань‑то понесло?
— Выпил я… А потом утопиться хотел, — признался Иона. — Ну, не то чтобы специально…
— Дурак, — прорычал мужик. — Горя отцу мало?! Если свою жизнь не жалеете…
— Говорю же, по бревнам побежал, да и… Лес‑то какой пошел? Значит, не смерть мне…
— Вставай, пошли в избу! — приказал он. — Утопленник… Бегом!
Иона бежал, словно по битому стеклу; болели ноги, спина, жгло исцарапанный живот. Яранку было не узнать. При свете фонарей он увидел с десяток брусовых срубов на месте, где стояли деревенские избы, выведенное под крышу каменное здание с пустыми проемами окон, и куда ни глянь — поддоны с силикатным кирпичом, кучи досок, железобетонных панелей, бетономешалки и стальные конструкции.
Мужик подвел его к сгоревшей избе, посредине которой стояла русская печь, велел обождать, а сам пошел сквозь крапиву, лопухи и нагромождение обгорелых бревен. Долго рылся там, шуршал углем и, вернувшись, бросил к ногам Ионы опорки от старых пимов.
— Обувайся… А то на другой конец топать: стекла, гады, набили — не ступишь,
Иона надел опорки, однако мужик уходить не спешил.
— Вот моя изба, — сказал он глухо. — Печь вот. На ней я и родился. Мать всех нас на печи рожала… Ничего, нич‑чего! Заплатят!
И пошел вперед, словно забыв о своем спутнике.
Окна избы старика Ощепкина были закрыты новыми, белеющими в темноте ставнями. Дед с бабкой не спали, видно, поджидали кого‑то. Ощепкин впустил их во двор, но только в избе увидел, что пришли двое, и, увидев, нисколько не удивился, даже не спросил, кто, откуда и почему такой мокрый и оборванный. Иона последний раз встречался со стариком лет пять назад, и ему казалось, что Ощепкин не узнает его. Старуха, едва глянув на Иону, тут же открыла сундук и достала белые кальсоны и длинную белую рубаху, подала:
— Переоденься‑ка, сынок, продрог, поди…
Иона переоделся, а Ощепкин набросил ему на плечи тулуп и, посадив за стол, подал кружку с горячим сбитнем.
— Ты хоть узнал меня, дед? — хлебая и обжигаясь, спросил Иона.
— Да как же вас не узнаешь? — вздохнул старик. — Если ночью да с шишками приходит человек, известно чей… Намедни отец твой такой же явился, нынче сын…
Мужик вышел на улицу, а Иона полез на печь. Возле порога лежала его одежда, скомканная, как змеиный выползок.
— Я не дрался, — сказал Иона, укрываясь тулупом. — А это что за мужик?
— Да ваш, вятский… Тоже ходит, мается, места не найдет.
Рубаха пахла свежевыстиранным, высушенным еще зимой на морозе бельем. Иона пригрелся, ощущая, как блаженное тепло разливается по телу и притупляет боль, закрыл глаза и спросил:
— Слушай, дед, а бог есть или нет?
— Я, паря, не знаю, — покряхтел старик. — Тоже сомнение берет: есть — нет? Сколько уж смерти прошу — не дает. А кому жить охота — тому смерть посылает… Прости, господи!
Он не видел, как вернулся с улицы мужик, услышал его голос:
— Ладно, спи… Завтра на мотоцикле отвезу. Что ноги‑то бить?
Иона вздрогнул:
— Ты погоди, погоди! Я здесь побуду, полежу немного… Я ведь тоже на печи родился.
Невидимый старик бродил по избе и тихо, раздумчиво говорил:
— Что народу не хватает? Что эдакая канитель? Строят да жгут, строят да жгут — не поймешь нынче…
Дети были накормлены, умыты, уложены в постели, и все, что можно постирать и вымыть, постирано и вымыто. Но Катерина сняла с веревки подсохшее белье и взялась гладить. Заварзин молча подошел и выключил утюг.
— Хотела, чтоб на завтра меньше… — начала было она и осеклась.
— Поздно уже, — сказал он, хотя на улице было светло и лишь чуть начинал синеть весенний вечер.
— Там у меня в машине…
— Я исправил, — сказал Заварзин. — Фары не горели.
Она покивала головой, огляделась, словно припоминая что‑то, и пошла к двери. Заварзин подождал у окна, когда Катерина сядет в машину, и поднялся наверх. Он хотел заглянуть к детям в комнату, но увидел старца, с баульчиком и фонарем в руках, тяжелая доха прижимала к земле.
— Куда ты, Семеныч? — шепотом спросил Заварзин.
— Пойду я, — сказал Алешка. — У тебя теперь есть за кем ходить, пойду. Я бы, Василий, с ребятишками поводился, да силы не те, какой из меня помощник? Пойду. К своим пойду. Должно быть, помру скоро, пускай они и хоронят. А то у тебя здесь ребятишки, напугаются еще…
Заварзин взял из его рук баул, подхватил под руку и повел по лестнице вниз.
— Брательника с кумом во сне видал, звали, — сказал он внизу. — Приходили за мной. Будто мы на Пижме‑то березовый сок пили, ребятишки еще будто. Они мне березку подсочили, а сами дальше пошли. Я пью, а сок‑то сладкий‑сладкий, да эдак бежит хорошо… Брательник‑то с кумом кричат мне и эдак рукой машут, подзывают… Пойду. Пойду березового соку попью. Давно не пивал…
Они вышли на крыльцо, но Алешка вдруг сел на ступеньки, подвернув под себя полу дохи.
— Ты меня послушаешь, Василий? — спросил он. — Сядь со мной и послушай. Я вот помирать собрался, а боюсь. Пока живой‑то — не страшно, как‑нибудь совладаю с собой. Но помру когда и — все. Придут и заберут мою душу… Ты не знаешь ли, Василий, как их провести‑то можно?
— Кого? — спросил Заварзин.
— Да архангелов, — серьезно сказал Алешка. — Когда они по мою душу придут. Пока жил, думал, ничего! А собрался помирать, душу жалко… Ведь они с ней что захотят, то и сделают. В огонь бросят — ничего, боюсь, мучить станут.
— Ты не думай об этом, — сказал Заварзин. — Жизнь у тебя худая была, какие там грехи за тобой?
— Ты же про меня, Василий, ничего не знаешь, — зашептал старец, отыскивая глазами лицо Заварзина. — Никто про меня не знает. Я ведь сколько народ‑то обманывал. У министра‑то, у Столыпина, я не был. А каравай‑то, который общество дало, по дороге с товарищем съел. И в Германии‑то я тоже не был… И церковь я зажигал. Грозу подождал, облил купола керосином и спичку сунул. В церкви‑то ведь твой прадед сгорел, Степан‑то… Ты уж меня прости. Кто мне еще более простит‑то?.. Раньше как бывало: покается человек и снова живет. На том и держался народ. А я тебе перед смертью каюсь.
— Я же не поп, грехи‑то отпускать, — проговорил Заварзин и привстал: возле ворот остановилась машина, во двор вошел Сергей.
— Ты мне Степана только прости, — прошептал Алешка. — Я за него прошу… За остальное уж как‑нибудь. Я обведу их, архангелов‑то, если придут. Я же хитрый. Они мою душу поищут…
— Я тебе гостя привез, — сказал Сергей и кивнул на калитку. За ним входил Иван Малышев.
Старец суетливо поднялся, подхватил баульчик с фонарем и застучал ладонью по ступеням, отыскивая клюку.
— Где Иона? — спросил Заварзин.
— А вот у гостя спроси, — Сергей подал Алешке палку. — Он тебе много чего расскажет… Жив твой большак, жив.
— Здорово были, — пробурчал Малышев и встал у крыльца, широко расставив ноги. — Я к тебе пришел, Тимофеич…
— Вы тут разбирайтесь, а я пойду, — Алешка нащупал клюкой дорогу. — Только в какую сторону‑то — покажите.. Совсем уж темно стало и керосину нет…
— Сережа, проводи Семеныча, — сказал Заварзин. — Только из рук в руки… Понял?
— Сам… Сам пойду! — старец поднял клюку. — Не найду, думаете? Найду! Нечего меня по рукам таскать! Хватит! Сам!
Сергей отобрал у него баул, взял под руку и повел к воротам.
— Тимофеич! Ты наш депутат! Тогда скажи мне, что творится?! — Иван сел на крыльцо, выругался.
— Ребятишек разбудишь, тише. — Заварзин прикрыл дверь. — Окна одинарные, в избе все слыхать.
Иван глянул на окна дома, понятливо сбавил тон.
— Скажи, какого хрена?.. Ты посмотри, что они делают! Ты в Яранке давно был? Видал, как они пашут? Видал?
— Не видел…
— Поехали, я тебе покажу! — опять закричал Иван. — Болото делают! Пятнадцать гектар в сутки! По плану!
— Погоди, Иван, — Заварзин опустился рядом. — Куда же я сейчас поеду? Погоди, не могу.
— Чего годить‑то? Ждать, когда они все изнахратят? Нет, я ждать не буду! Я за тобой пришел. Идем, мы им устроим! Хозяева, в бога мать…
— Вдвоем‑то мы ничего не сделаем, Иван. Посмеются, и все…
— Ну и сиди тогда! — Иван вскочил. — А я пойду, заведу бульдозер и эту контору к чертовой матери! Лучше в тюрьму сяду, чем смотреть на такое!
— Завтра у моего поскребышка именины, — сказал Заварзин. — Год исполняется. Ты приходи…
— Именины? — возмущенно спросил Малышев и отвернулся. — Нашел время гулять.
— Приходи. Я утром пойду гостей звать, а ты так приходи, сам. Именины дело серьезное. Человек только год на свете прожил. Целый год!.. Иван, у тебя же гармонь была. Ты же играл. Приходи с гармонью, а то моя так и лежит порванная…
Заварзин обнял его за плечи и ощутил, как вздрогнула спина под рукой и затряслась, сгибаясь и каменея. Руки и лицо Малышева были измазаны черной землей, грязные потеки ее засохли на шее, а косой шрам от виска и до ключицы, побагровев, в сумерках казался свежим, кровоточащим.
— Не плачь, Иван, — попросил Заварзин. — Увидит кто…
И сам почувствовал, как сдавило горло и невозможно уже дышать, не всхлипывая. И моргнуть страшно…
— Мы ведь с тобой такое… — сказал он, — такое пережили… И сейчас переживем, не плачь.
И заплакал сам.
Темная дырочка уха без ушной раковины на голове Ивана смотрела как пулевая пробоина.
27
И эта страшная рана зажила, хоть и ослепила медведя, сделала неспособным жить в одиночку, одному добывать пищу.
Теперь можно было полагаться на обостренный слух, на обоняние и еще на своего поводыря. Около месяца, пока он, почти обездвиженный, лежал в трущобах на берегу ручья, собака кормила его тем, что добывала у людей. Но когда ей не удавалось зарезать даже ягненка, она приносила пищу с помоек — плесневелый хлеб, тухлую рыбу и кости. Случалось, что он, как щенок, ел ее отрыжку…
Потом, когда медведь начал подниматься, они быстро научились охотиться вдвоем. Дог находил лосиную матку, которая отстаивалась днем на чистых болотах, приводил его к этому месту, и медведь ложился в засаду. Собака заходила с другой стороны и осторожно гнала лосиху с детенышами на него. Путать зверей было нельзя: сорвавшись, лесная корова могла резко уйти в сторону. Поэтому собака не лаяла, а всякий раз появлялась на глаза лосихе в нужном месте, как бы подправляя ее движение. Таким образом и выводила на засаду. Первый раз у них вышла промашка — лосята с маткой проскочили мимо зверя совсем рядом. Медведь сделал запоздалый скачок и ударился головой о сушину. Нужно было угадать движение лосихи и точно определить расстояние до нее. Во второй раз он угадал. Неожиданно появившись перед отступающими зверями, он сшиб лосенка и вслепую бросился за маткой, чтобы отпугнуть ее и сбить желание защищаться. Лосиха ушла, уводя за собой последнего детеныша.
Затем они сделали вместе удачный набег на пасеку. Ночью собака вела его по гарям в сторону старых вырубок, где держались сохатые, а он вдруг почувствовал близкий запах пчел и меда. Оставив поводыря, он свернул на этот запах и ощупью пошел к леваде. Собака догнала его, проводила до прясла и встала в растерянности. Но в этот момент залаял пасечный кобель, и все обошлось. Собака махнула через прясло, заставила пса трепетать перед ней, и пока лишенный воли охранник елозил на спине перед сильным противником, медведь проник на пасеку и унес улей. В кустах за минполосой он вытряхнул его содержимое и, отмахиваясь от пчел, выел соты. Тем временем собака лежала поодаль, забившись в траву: разозленные пчелы легко пробивали короткую шерсть и жалили тело. К тому же дог не ел меда…
Несмотря на довольно сытую жизнь после болезни, все‑таки надо было уходить из этих мест. На гарях появились трактора и люди. Сначала они пахали землю возле брошенной деревни, и в этом не было никакой опасности. Однако скоро бросили пахать и в разных местах гарей поставили вагончики, пригнали бульдозеры, экскаваторы и начали утюжить землю, сталкивая вывороченные пни и валежник в огромные кучи. Когда вокруг вагончиков были расчищены широкие площади, люди стали рыть траншею. Рыли вдоль и поперек, отрезая тем самым гари от шелкопрядников. Можно было и это выдержать, но однажды днем вспыхнули острова сухостойника и горы пней среди раскорчеванной и изрытой земли. Дымом застлало все вокруг; по ночам его прижимало к земле, так что трудно становилось дышать. В дыму, как в тумане, они проходили несколько дней, ближе прижимаясь к пасекам, но и там пищи не было. Люди стали уходить с пасек, вывозить ульи и бросать избы. Зверь и собака шли от одной пасеки к другой и везде заставали либо торопливые сборы, либо вообще пустые разоренные дома с пустыми левадами. Некоторые оказывались уже заселенными другими людьми, теми, что корчевали и рыли гари. А на месте, где были ульи, теперь стояли трактора. На пасеке, в некогда заповедном углу, вообще ничего не осталось. Разве что яма на месте избы, набитая проросшей картошкой, да столбы, на которых когда‑то висела колючая проволока.
Надо было уходить, и путь оставался один — к кромке живого леса, в самую гущу шелкопрядников, лишь кое‑где тронутых пожарами. Там была территория другого зверя, с которым приходилось уже сталкиваться после ранения прошлым летом. Однако поводырь не знал того места. Ко всему прочему, собака начала исчезать куда‑то на всю ночь и возвращалась по утрам, без добычи, но часто в крови. По запаху медведь определил, что в деревне начался собачий гон.
И тогда он пошел один. Он знал, куда нужно идти, помнил направление, но шел медленно, не доверяясь ни слуху, ни обонянию. Нос забивало дымом, треск машин доносился со всех сторон. Медведь вышел уже на пахоту, когда его догнала собака и потрусила следом. Теперь он вел ее. Целый день они тащились по шелкопрядникам, по самым гиблым местам, где кроме мышей не было никакой пищи. На ночь медведь залегал в буреломнике, а собака опять бежала в деревню. Но когда они ушли на расстояние, куда уже не доносился гул тракторов, а дым был лишь по утрам, собака больше не оставляла его. Определив направление, она убегала вперед, подолгу где‑то пропадала и, вернувшись, скулила призывно, поторапливала. Наконец, они выбрались на опушку шелкопрядника, и медведь сначала уловил запах меты другого зверя. Он побродил вдоль опушки, обнюхивая деревья, нашел сухостоину с «пограничным знаком» и, встав на задние лапы, начертал свою грамоту, в полсажени выше, чем была хозяйская. Ощущение близости противника будоражило его, вызывало желание схватки. Он отыскал старый след «хозяина» и, забыв о собаке, пошел по нему, разжигая себя тихим утробным ворчанием. Однако поводырь выскочил ему навстречу и завертелся возле морды, поскуливая и предлагая остановиться. Медведь приподнялся на лапах, опершись передними о валежину, и вдруг ощутил привычный запах старой гари и близкой пасеки. Потом он услышал стук топора и громкое пение человека.
До глубокой ночи медведь и собака лежали возле неширокой гари, пока в другом конце ее не стихли все звуки. Иногда медведю не хватало терпения, он начинал ворчать, приподниматься, — но собака усаживала его и принималась лизать зажившую, но еще раздираемую зудом рану. Она не чувствовала тех запахов, что дразнили зверя. Вернее, относилась к ним равнодушно. Будоражило ее другое — от человеческого жилья пахло мясом, причем свежим, кровавым. Единожды вкусив еще горячего лосиного мяса, она уже не могла забыть его сладости…
Ночью они, подошли к пасеке. Выскочившая навстречу собака тявкнула несколько раз и осеклась. Через мгновение дог стоял над хозяйским псом, который скулил жалобно и подобострастно. Тем временем медведь прошел вдоль проволочной изгороди, нащупал свободный пролет и тихо ступил на территорию пасеки.
А собака, усмирив сторожа и увлекая его за собой, обежала строящуюся избу кругом и остановилась перед свежей, растянутой на стене медвежьей шкурой. Рядом, накрытая куском толя, стояла большая кадка, от которой пахло мясом. Дог стянул толь, но кадка оказалась закрытой плотно деревянной крышкой. Поскулив и слизнув засохшую кровь с ее боков, собака приступила к шкуре. Хозяйский пес, чуть осмелев, тоже потянулся было к ней, однако дог сморщил нос и показал ему клыки.
Они ушли с пасеки лишь под утро. Весь день собака настороженно прислушивалась к скрипу леса. Сквозь шум шелкопрядника доносился собачий вой на пасеке. В этот день топор почему‑то не стучал. А человек ходил по гари возле избы и громко пел песни. Он пел, пока не охрип. И тогда в глухом углу погибшей черной тайги слышался только собачий вой…
Вечером медведь забеспокоился. Он поднялся с лежки и ворча стал бродить, нюхать землю, отфыркивая ее запах. Он продирался сквозь завалы, пока не вышел на свой вчерашний след. Собака настигла его, забежала вперед, но медведь обошел ее и упорно двинулся по своему следу в обратном направлении.
… Через два дня они вновь вернулись на гари. Корма здесь не было: от дыма и гула ушло все живое, и сколько они ни бродили по выжженной и изрытой земле, ничего, кроме мышей‑полевок и воронья, не встретили. Но и люди почему‑то исчезли, вместе с тракторами и вагончиками, оставив за собой недорытые канавы и догорающие, чадящие костры. За несколько суток они прошли все гари из конца в конец, затем повернули назад. Собака тянула зверя поближе к жилью, однако тот норовил пройти границей шелкопрядников.
Измученные голодом и бесконечными переходами, они вышли на закаменевшую под солнцем пахоту, и вдруг медведь, идущий впереди, лег, вжался в исковерканную землю. Совсем рядом он уловил пронзительный запах человека…
Сначала всем селом искали убийц. Разъезжались на лодках по реке, на машинах и мотоциклах по дорогам и проселкам, проверяли самые глухие углы и многолюдные места, расспрашивали всех встречных и поперечных, задерживали подозрительных и вели под ружьем в милицию. За неделю прочесали весь район, допросили с пристрастием всех известных стремянским мужикам браконьеров (а известны им были все), тряхнули «нефтяных королей» с базы отдыха, мелиораторов и рабочих‑пахарей из Яранки, которые корчевали гари.
Съехавшись в Стремянке либо на перекрестке дорог, много говорили, будоражили друг друга и вновь бросались на поиски. Каждый уже знал, что искать таким образом убийц бессмысленно — не сидят же они на месте! — однако стоило лишь собраться в кучу, как возникал какой‑то массовый зуд поиска.
Спустя неделю, когда мужики начали уставать от собственной бестолковости, кому‑то пришло в голову попробовать поискать в реке тела погибших Тимофея и Валентины. Где‑то достали акваланги, сделали «кошки» и стали прочесывать дно во всех подозрительных местах. И еще несколько дней жили, захваченные единой целью…
Бросив наконец бесплодное занятие, мужики вернулись домой, однако, расстаться не могли — собирались вечерами у церкви, шумели, спорили по пустякам, чуть ли не драться схватывались, будто маялись от какой‑то неведомой, распирающей их энергии. Неизвестно, как бы все пошло дальше, если, бы не пропал старец Алешка. На его поиски снова двинулись всем селом. Искали днем и ночью, помня, что он ходил всегда с фонарем. Пешком исхаживали гари вдоль и поперек, ездили по дорогам, стреляли, подавая сигналы, гудели автомобильными сиренами, кричали, звали и снова спрашивали всех встречных. Говорят, будто видели его бульдозеристы из мехколонны нефтяников недалеко от Яранки, на гарях. Будто он просил керосину, ему дали солярки да еще в бутылку налили про запас. И будто видели ночью какой‑то огонек на пашне и на гарях, который медленно двигался над землей, колыхался так, словно его нес человек. Такой же огонек видели на берегу реки, затем в полях недалеко от райцентра. А спустя неделю этот блуждающий огонек видели чуть ли не все в округе, или хотя бы знали людей, которые видели. Кто‑то даже пробовал догонять его, бежал следом, наперерез, навстречу, но неуловимый светлячок исчезал, едва к нему приближались.
Видели многие, говорили многие, только вот Алешку найти так и не смогли. Еще позже уже стало невозможно отделить вымысел от реальности. Искать Алешку перестали, надеясь теперь лишь на случай. Только его внучатые племянники, объехав всю округу, исходив гари вдоль и поперек, не отступились, наняли у нефтяников вертолет и стали облетывать на малой высоте, буквально прочесывать всю прилегающую к Стремянке местность.
Деда они своего так и не нашли. Но зато увидели землю, на которой жило несколько поколений вятских переселенцев. Никто в Стремянке ни разу не поднимался над ней, никто не смотрел на нее с высоты. Тут же, когда братья Забелины приземлились и рассказали, что видели, всем сразу же захотелось немедленно посмотреть своими глазами. В вертолет набилось столько желающих, что он едва оторвался от земли.
Они ждали увидеть драные, обомшелые крыши старых изб, кривые улочки, бестолково поставленные дома; ждали заросшие, запущенные дедовские поля, забитые гниющим лесом луга, мертвые шелкопрядники; ждали черноту выжженной земли с пятнами ожогов, изуродованные целинными плугами пашни, «марсианские» каналы — одним словом, ждали увидеть разоренную, пустынную территорию, которую и землей‑то назвать трудно.
Однако чем выше поднимался вертолет, тем земля становилась все краше, словно кто‑то затушевывал следы разора и запустения. Она виделась сверху совсем не такой, какой всегда была внизу; она узнавалась до последнего козьего копытца и одновременно казалась неведомой, первозданной и сияющей.
Вертолет и так уже поднялся высоко, но засидевшиеся на земле мужики кричали пилотам — выше, выше! — и таращились в иллюминаторы.
Через день полеты окончились: платить за аренду вертолета стало нечем.
Вместе с полетами кончалась и страсть к поиску, будто, поднявшись над землей, нашли все, что хотели.
Или наоборот, с высоты и открылось то, о чем не думали никогда, что не могли разглядеть на земле.
И тихо наконец стало в Стремянке.
Утро начиналось с петушиного крика, затем просыпались хозяйки, управлялись с коровами, топили печи, а чуть позже поднимались мужики, и тогда заводились моторы, стучали топоры, гремело железо. Однако все эти звуки напоминали ровный гул пасеки в пору медосбора.
Сергей считал себя в какой‑то мере виновным в исчезновении старца Алешки.
В тот вечер, когда отец попросил проводить старца домой, к племянникам, Сергей благополучно довел его до первого переулка, и тут Алешка заявил, что никуда он дальше не пойдет, так что сопровождение ему не нужно. Сергей попытался уговорить, потом попробовал вести за руку, но старец вывернулся из своей дохи и потрусил к лесу. Тогда Сергей догнал его и где уговорами, где насильно привел‑таки к дому Забелиных. Братья вместе с женами выскочили навстречу, стали упрашивать войти в дом, винились перед старцем. Готовы были на колени встать среди улицы, только бы простил, их Алешка.
— Виноваты мы, дедушка! — чуть ли не в голос кричали братья. — Вот перед чужим человеком, перед свидетелем каемся — виноваты! Прости, если можешь, не держи на нас сердца. Василия Тимофеевича просить хотели, чтобы позволил нам взять тебя назад! Вспоминали мы, как сами сиротствовали, как по чужим избам жили, по чужим полатям спали. А теперь ухаживать за тобой будем! Книги тебе читать хоть и день и ночь, только зайди в дом и живи у нас! Нам и так сраму хватает, дедушка! Обманывали тебя, смеялись. Прости нас.
Сергею надо было остаться, поговорить с ним еще. Тогда бы, может, ясно стало, что старец попросту обманывал племянников. Лишь бы отвязаться от них и сделать по‑своему.
Позже Сергей вспомнил, что, когда вел Алешку к дому, тот бормотал ему об архангелах, которые скоро прилетят за его душой. И ему, Алешке, надо сделать так, чтобы душа не попала им в руки. Мол, ты ученый, должен знать. Если бога нет — нет тогда ни ада, ни рая. Но куда же в таком случае девается душа человеческая после смерти? Человек‑то, говорил, может умереть, но неужели и душа умирает? И сам себя уверял, что нет, улетает куда‑нибудь и живет, и смотрит сверху или снизу на живых — как ей, душе, будет угодно.
Все последнее время Сергей жил в Стремянке с ощущением, будто ему опять дали тесноватые сапоги и он, как это случилось на дороге в российскую Стремянку, сначала не заметил их тесноты, а когда хватился, то уже растревожил старые и набил новые мозоли. И с каждым днем ходить по земле становилось больнее…
Ноги и впрямь болели, поскольку последнее время он много ходил пешком. Искал свою пропавшую собаку, погибшего Тимофея с Валентиной, искал отца, большака и, наконец, Алешку. И когда уже искать было некого, все равно ходил с таким ощущением, будто все еще ищет. Лазил по изрытым гарям, по проселкам, по зарастающим лесовозным дорогам и просто по шелкопрядникам или лесопосадкам. Уходил он с первыми петухами, с какой‑то тихой и настороженной радостью просыпаясь от их крика. Сначала бродил по селу — от дома к реке, от реки до старой церкви, смотрел, как хозяйки выгоняют коров, как потом затапливают печи и как поднимаются над Стремянкой первые, легкие дымы. И вместе с дымами кончалась тишина. Тогда Сергей выходил на один из проселков, во множестве вытекающих из села, и брел в глубь молодых лесов и гарей. Но и там вскоре начинался шум — трещали бульдозерные пускачи, трещал сухостой и пни под ножами, трещали древесные стволы в огромных кострах и гремело торжествующе железо.
Как‑то раз, еще в светлеющих утренних сумерках, после первых петухов, он шел от реки к церкви и вдруг заметил на пустыре дрожащий, призрачный огонек. Пустырь, где когда‑то ребятишки играли в лапту, с некоторых пор был раскопан, завален стройматериалами и горами земли: Михаил Солякин начинал строить дом. Сергей прибавил шагу, стараясь не потерять из виду огонек, и оказался возле мощного, разлапистого фундамента в котловане. Кругом не было ни души. И огонек, поскакав по железобетонным блокам, вдруг растворился в воздухе начинающегося дня. По каким‑то доскам Сергей поднялся на фундамент и, запинаясь об арматуру, прошел по всему периметру. В котловане стояла вода — накануне прошел сильный ливень. А в погожие дни со всей Стремянки собиралась сюда ребятня. Они делились на команды, после чего одна половина занимала крепость, другая шла на приступ. Их никто не гнал, потому что Михаил давно не появлялся на стройке. Сергей встречал его то на пароме, то на берегу реки у села, а однажды чуть ли не столкнулись в Яранке… Завидев Сергея, Солякин усмехался, подбоченившись. Затем не спеша уходил прочь. Сергей тоже не испытывал большой охоты видеться с ним, однако, если вспоминалось, как бежали из Стремянки по теплой, грязной дороге, на душе становилось так печально, что в этот момент он бы простил грехи и обиды всем, кто был грешен перед ним или чем‑то обидел. Такое состояние длилось мгновения, ошпаривало, будто кипятком, и он опасливо оглядывался по сторонам, боясь, чтоб кто‑нибудь не оказался рядом. Но окажись Михаил — скорее всего обрадовался бы.
Сергей сделал круг по пустырю, заглянул в сарайчик, где хранился цемент; огонек словно в воду канул…
По утрам, выходя из дома, он брал горбушку хлеба в карман куртки, но не съедал и приносил ее целиком назад, чтобы, прокравшись в спальню к ребятишкам, оставить им «посылку от зайчика». Хлеб за день черствел, напитывался запахом гари, пота и леса…
Была весна, в живых лесах, по‑детски голенастых, распускалась прозрачно‑зеленая листва, тянулись подснежники, мохнатые стебли сон‑травы, задумчивая медуница и уже перезревшая колба. Но за живым молодняком начинались серые, в черных ожогах, безрадостные гари, пахнущие гнилью и болотом шелкопрядники. Всю весну над всем живым и мертвым орали трактора и реял вездесущий дым. Потом незаметно наступило лето, заматерели листья на молодняке, отцвели подснежники с медуницей, но засинели на солнцепеках семейки кукушкиных слезок, с купеческим размахом распустились кусты марьиного корня, одуряюще запахло цветущим багульником и, наконец, выбросила розовые кольца изнеженная саранка.
А изорванные бульдозерными гусеницами и лопатами гари по‑прежнему оставались черными, безжизненными. Лишь кое‑где набрали цвет и ждали своего часа острова кипрея да вездесущий осинник выметал фанерно‑жесткие лопухи листьев. Там же, где целинными плугами, словно муть со дна, подняли пласты засыхающей в камень глины, там, где собирались сеять, пока еще ничего не росло. В низинах и летом стояла вода, а на буграх лежала окаменевшая земля, прикрыв собой плодородный чернозем.
Сергей не заходил далеко по этой пашне, старался быть ближе к лесопосадкам, держался за них, как бы держался берега в полую, дурную воду, отправляясь на лодке. И в этот раз не зашел бы далеко, если бы снова не увидел над изуродованной землей бегущий огонек. Сумерки над пашней казались плотнее, и брезжущий этот свет двигался в них со скоростью идущего человека.
Сначала он пошел на огонек, затем побежал, выворачивая ноги на пахоте. Светящийся язычок, пламени, казалось, тоже сначала двинулся ему навстречу, еще немного, и он был бы рядом. Сергей закричал, замахал над головой сорванной с плеч курткой, однако огонек неожиданно пошел в сторону, качаясь над землей так, если бы его нес человек. И сумерки отодвигались вместе с ним к недалекому горизонту. Сергей свернул за ним, но больше не кричал. Он бежал по вспаханному склону, поднимаясь вверх, и вверх же тянул призрачный огонек. На вершине холма Сергей почти настиг его, казалось, протяни руку и достанешь, но огонек неожиданно оторвался от земли и, качаясь в мареве, поплыл в небо…
Он встал, переводя дух, и на какой‑то момент выпустил огонек из виду. Над горизонтом светилось белесое небо, однако из‑за шелкопрядников поднимался край синюшной тучи и тень ее медленно закрывала землю. Потом Сергей увидел исчезнувший свет. Только он уже раскалился и из желтого превратился в сверкающий белый. Впрочем, то могла быть и вечерняя звезда…
Сергей проследил за стайкой диких голубей, неприкаянно мечущихся над пашней, и сел. Он снял сапоги, размотал сбившиеся портянки и, босым ступив на землю, ощутил ее сырость и шероховатую твердь. Кровь стучала в голове и эхом отдавалась в натруженных ногах. Он хотел сесть поудобнее, чтобы расслабить их, но замер, вглядываясь в синеву сумерек.
В двадцати шагах от него, прижавшись к земле, неподвижно лежал медведь. Сергей хорошо различил его горбатую спину и огромную мохнатую голову, но страха почему‑то не почувствовал, хотя не решался двинуться. Прошло несколько минут, прежде чем Сергей увидел стремительный бег черной собаки. Он машинально вскочил, закричал:
— Джим! Джим, ко мне!
Собака на мгновение остановилась, вскинув уши, взвизгнула и бросилась к Сергею. От удара лапами в грудь он чуть не упал, схватив голову дога, прижался к ней и ощутил горячее собачье дыхание. Однако в следующий момент Джим вывернулся из рук и встал на четыре лапы.
Медведь полусидел на земле и, опустив голову, тихо ворчал.
И только сейчас Сергей связал одновременное присутствие здесь зверя и собаки.
Джим понюхал землю возле босых ног Сергея и потрусил назад. Можно было еще окликнуть его, позвать, просто догнать. Хотя бы для того, чтобы снять ошейник…
Он сидел долго и, не глядя на часы, угадывал время. Сначала вызвездило, свежий ветер высушил рубаху на спине, затем лопатки свело от холода, но, странное дело, босые ноги на земле оставались теплыми и чувствительными. Он вспомнил старинную примету: если земля не холодит ног — пора сеять.
Потом невидимый самолет распахал упругое небо, развалил его надвое, и та половина, что была ближе к солнцу, начала медленно светлеть…
Томск — Вологда, 1983 — 1986