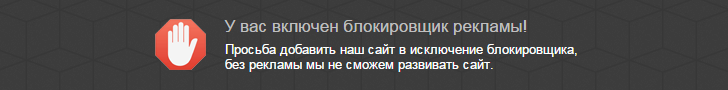III
Ничто не может им помешать — не известно примера, чтобы рой отказался приняться за работу, потерял мужество или растерялся вследствие необычности условий, если только предлагаемое жилище не пропитано дурным запахом или действительно необитаемо. Даже в таком случае не может быть и речи об упадке духа, колебании или отречении от долга. Рой просто покидает негостеприимное убежище и отправляется искать лучшей доли куда-нибудь дальше. Еще меньше известно случаев, когда кому-нибудь удалось заставить пчел произвести ненужную и неразумную работу. Никогда не приходилось констатировать, чтобы пчелы потеряли голову или чтобы они, не зная, на что решиться, возвели наудачу разбросанные и неправильные постройки. Поместите их в шар, в куб, в пирамиду, в овальную или многоугольную корзину, в цилиндр или в спираль; загляните к ним через несколько дней, если они приняли жилище, — и вы увидите, что это странное сборище маленьких независимых умов сумело немедленно прийти к соглашению, чтобы без колебаний, с помощью метода, принципы которого, по-видимому, неизменны, но следствия жизненны, выбрать самое выгодное положение, часто единственное место, которое может быть утилизировано в нелепом обиталище.
Когда их помещают в один из тех больших, снабженных рамами, заводов, о которых мы только что говорили, пчелы принимают в расчет эти рамы лишь постольку, поскольку они служат для них пунктами отправления и точками опоры, удобными для их сотов, и весьма естественно, что они нисколько не беспокоятся ни о желаниях, ни о намерениях человека. Но если пчеловод позаботился снабдить верхнюю дощечку некоторых рам узкой полоской воска, то они немедленно поймут выгоды, представляемые им этой начатой работой; они заботливо вытянут эту полоску и, прибавивши к ней собственного воска, методически продолжат сот по указанному плану. Точно так же — и это часто бывает при интенсивном современном пчеловодстве, — если все рамы улья, куда поместили рой, снабжены сверху донизу листами гофрированного воска, пчелы не станут терять времени, чтобы строить другие рядом или поперек, не станут бесполезно делать воск, но, найдя работу уже наполовину сделанной, удовольствуются тем, что углубят и удлинят каждую из ячеек, намеченную на листе, исправляя постепенно места, где лист уклоняется от строго вертикальной линии; таким образом они, менее чем в одну неделю, станут обладательницами такого же роскошного и так же хорошо построенного города, как и тот, который они покинули; между тем как, предоставленные только их собственным ресурсам, они должны были бы работать два или три месяца, чтобы настроить в таком же изобилии склады и дома из белого воска.
IV
Конечно, эта способность приспособления должна казаться далеко выходящей за границы инстинкта. Но, в сущности, нет ничего произвольнее этих различий между инстинктом и собственно разумом. Сэр Джон Леббок, который произвел такие любопытные и самостоятельные наблюдения над муравьями, осами и пчелами, очень склонен отказать пчелам в способности к различению и рассуждению, как только пчела выходит из рутины своих привычных работ. Это происходит, может быть, вследствие бессознательного и немного несправедливого предпочтения, оказываемого исследователем муравьям, составлявшим предмет его специального исследования, потому что всякий наблюдатель хочет, чтобы насекомое, которое он изучает, было более разумным и более замечательным, чем другие; но не мешало бы остеречься от этой мелкой причуды самолюбия. Для доказательства своей мысли сэр Джон Леббок приводит опыт, который легко может быть произведен каждым. Впустите в графин полдюжины мух и полдюжины пчел; потом, положив графин горизонтально, поверните дно к окошку комнаты. Пчелы в течение многих часов с ожесточением будут искать выход через дно графина, пока не умрут от усталости или голода, между тем как мухи меньше чем за две минуты выйдут все с противоположной стороны, через горлышко. Сэр Джон Леббок заключает из этого, что ум пчелы чрезвычайно ограничен и что муха проявляет гораздо больше ловкости, чтобы выпутаться и найти дорогу. Это заключение не выглядит безупречным. Поворачивайте попеременно, двадцать раз подряд, если хотите, направляя к свету то дно, то горлышко прозрачного шара, — и двадцать раз подряд пчелы повернутся в то же время, чтобы направиться к свету. То, что их губит в опыте ученого англичанина, это — их любовь к свету, это — именно их разум. Они, очевидно, воображают, что во всякой тюрьме освобождение должно следовать со стороны наиболее яркого света; они действуют соответственно и упорствуют в своих слишком логичных действиях. Они никогда не знали той сверхъестественной тайны, которой является для них стекло; они видят лишь, что атмосфера внезапно стала непроницаемой, т.е. произошло явление, которого не существует в природе; это препятствие, эта тайна должны быть для них тем более недопустимы, тем более непонятны, чем более они разумны; между тем как безмозглые мухи, нисколько не заботясь о логике, о призыве света, о загадочности стекла, носятся наудачу в шаре и случайно наталкиваются на своем пути на благодетельное горлышко, которое их и выпускает, — подобно тому, как иногда спасаются недалекие там, где погибают самые мудрые.
V
Этот же натуралист видит еще одно доказательство недостаточности разума пчел в следующей цитате из известного американского пчеловода, почтенного Лангстрота: «Так как муха была призвана жить не на цветах, но на веществах, где она легко могла бы утопиться, она с предосторожностью садится на края сосудов, содержащих жидкую пищу, и черпает оттуда осторожно, между тем как бедная пчела бросается туда головой вниз и скоро там погибает. Страшная участь их сестры ни на минуту не останавливает других, когда они, в свою очередь, приближаются к приманке: как безумные, садятся они на трупы и на умирающих, чтобы разделить их печальную судьбу. Никто не может вообразить, как велико их безумие, если он не видел лавки кондитера, осажденной мириадами голодных пчел. Я видел тысячи пчел, вытащенных из сиропа, где они утонули; я видел, как тысячи садились на кипящий сахар; почва была покрыта, и окна затемнены пчелами; одни тащились, другие летали, а некоторые были так вымазаны, что не могли ни летать, ни ползать; даже одна из десяти не в состоянии была отнести домой плохо приобретенную добычу, а между тем воздух был полон легионами вновь прибывающих и таких же безумных».
Это не лучшее из доказательств, чем было бы доказательством для желавшего определить границы нашего разума сверхчеловека зрелище опустошений алкоголизма или поля битвы. Положение пчелы в этом мире странно, если его сравнить с нашим. Она явилась в мир с тем, чтобы жить среди природы, безразличной и бессознательной, а не рядом с необыкновенным существом, которое переворачивает около нее самые постоянные законы и создает грандиозные и непостижимые явления. В естественном порядке, в монотонном существовании родимого леса опьянение, описанное Лангстротом, было бы возможно только тогда, когда по какой-нибудь случайности вдруг разбился бы улей, полный меда. Но и тогда там не было бы ни смертельно опасных окон, ни кипящего сахара, ни слишком густого сиропа, а следовательно, не было бы мертвых и никаких других опасностей, кроме тех, которым подвергается всякое животное, преследуя свою добычу.
Лучше ли сохранили бы мы наше хладнокровие, если бы какая-нибудь могущественная и необыкновенная власть на каждом шагу искушала наш разум? Нам поэтому очень трудно судить пчел, которых мы сами делаем безумными и разум которых не был вооружен, чтобы обнаруживать наши козни, точно так же, как и наш разум не вооружен, по-видимому, достаточно, чтобы разрушать козни высшего существа, в настоящее время неизвестного, но тем не менее возможного. Не зная ничего, что господствовало бы над нами, мы заключаем, что занимаем вершину жизни на нашей земле; но, в конце концов, это отнюдь не неоспоримо. Я не требую, чтобы мне верили, когда я говорю о том, что, если мы совершаем беспорядочные или дрянные поступки, это происходит потому, что мы попали в сети высшего гения, но нет ничего невероятного, что это может когда-нибудь показаться верным. С другой стороны, неразумно утверждать, что пчелы лишены разума, потому что они еще не научились отличать нас от большой обезьяны или медведя и относятся к нам так же, как они относились бы к этим простодушным обитателям первобытного леса. Несомненно, что в нас и вокруг нас имеются влияния и силы, столь же различные, которые мы различаем не больше.
Наконец, чтобы закончить эту апологию, где я немного поддаюсь пристрастию, в котором выше упрекал сэра Джона Леббока, скажу еще: не нужно ли быть разумным, чтобы быть способным к таким крупным безумиям? Так всегда бывает в этой неверной области разума, который является самым непрочным, самым колеблющимся состоянием материи. В том же свете, которым является разум, есть еще страсть, и нельзя сказать достоверно, что она такое — дым или светильня пламени. А здесь страсть пчел достаточно благородна, чтобы извинить колебание их разума. На эту неосторожность их толкает не животное рвение наесться до отвала медом. Они могли бы сделать это на свободе в кладовых своего жилища. Наблюдайте их, следуйте за ними в аналогичных обстоятельствах, и вы увидите, как они, наполнивши зоб, немедленно возвращаются в улей, чтобы сложить там свою добычу, чтобы в течение одного часа тридцать раз посетить чудесную жатву и снова возвратиться. Это указывает на то же самое желание, которое совершает столько удивительных дел: на рвение принести наибольшее количество благ, им доступных, в дом их сестер и будущего. Когда безумия людей имеют причиной столь же бескорыстные побуждения, мы часто даем им другое название.
VI
Однако нужно сказать всю истину. Среди чудес их искусства, их благоустройства, их самоотречения нас всегда будет поражать и удерживать наше восхищение одна вещь: это их безразличие к смерти и несчастиям их товарищей. В характере пчелы есть очень странное раздвоение. В недрах улья все любят друг друга и помогают один другому. Они так же соединены, как хорошие мысли одной и той же души. Если вы раните одну из них, тысячи принесут себя в жертву, чтобы отомстить обиду. Вне улья они больше не знают друг друга. Изувечьте, раздавите — или лучше не делайте ничего подобного, это было бы бесполезной жестокостью, потому что факт несомненен, — но предположим, что вы бы изувечили, раздавили на соте, расположенном в нескольких шагах от их жилища, десять, двадцать или тридцать пчел, вышедших из одного улья, — те, которых вы не тронете, не повернут головы и будут продолжать черпать своим языком, фантастическим, как китайское оружие, жидкость, которая им драгоценнее жизни, оставаясь безучастными к агониям, задевающим их своими последними движениями, и к воплям отчаяния, раздающимся вокруг них. А когда сот будет уже пуст, пчелы, чтобы ничего не потерять, спокойно взберутся на мертвых и раненых и соберут мед, прилипший к жертвам, не трогаясь присутствием мертвых и не думая о помощи раненым. Значит, они в этом случае не имеют ни понятия об опасности, которой они подвергаются, потому что смерть, распространяющаяся вокруг них, не беспокоит их, ни малейшего чувства солидарности или жалости. Что касается опасности, это объясняется тем, что пчела не знает боязни и ничто в мире ее не пугает, кроме дыма. По выходе из улья она вместе с лазурью вдыхает кротость и смирение. Она отстраняется от того, кто ее беспокоит, она делает вид, что не замечает тех, кто ее не слишком теснит. Можно подумать, что она сознает себя во вселенной, которая принадлежит всем, где каждый имеет право на свое место и где подобает быть скромным и миролюбивым. Но под этой снисходительностью мирно прячется сердце, настолько уверенное в самом себе, что оно и не думает заявлять о своей личности. Если кто-нибудь ей угрожает, она делает крюк, но никогда не обращается в бегство. С другой стороны, в улье она не ограничивается этим пассивным игнорированием опасности. Пчелы с неслыханной запальчивостью набрасываются на всякое живое существо: муравья, льва или человека, который осмелится прикоснуться к священному киоту. Назовем это, смотря по направлению нашего ума, гневом, бессмысленным остервенением или героизмом.
Но ничего нельзя возразить ни против недостатка солидарности пчел вне улья, ни даже против их взаимной симпатии в самом улье. Нужно ли думать, что существуют такие непредвиденные границы для разума всякого рода и что маленькое пламя, которое с трудом исходит из мозга, вследствие трудной воспламеняемости такой массы косной материи, всегда так не верно, что оно может лучше осветить только одну точку в ущерб многим другим? Можно думать, что пчела или природа в пчеле организовала более совершенным образом, чем во всяком другом месте, труд в сообществе, культ и любовь к будущему. Не по этой ли причине пчелы теряют из виду все остальное? Они любят впереди себя, а мы особенно любим вокруг себя. Может быть, достаточно любить здесь, чтобы уже не хватало любви для затраты там. Нет ничего изменчивее направления милосердия или жалости. Мы сами некогда были бы меньше шокированы, чем в настоящее время, этою бесчувственностью пчел, и многие люди древности и не подумали бы упрекать их в ней. Наконец, можем ли мы предвидеть все, чем было бы в нас удивлено существо, которое наблюдало бы нас так, как мы наблюдаем пчел?
VII
Чтобы составить себе более ясное понятие о разуме пчел, нам остается исследовать, каким образом они общаются друг с другом. Очевидно, что они понимают одна другую, и очевидно также, что столь многочисленная республика, с такими разнообразными, так чудесно согласованными работами, не могла бы существовать в молчании и умственной обособленности стольких тысяч существ. Они, безусловно, должны обладать способностью выражать свои мысли или свои чувства при посредстве или звукового словаря, или же, что более вероятно, с помощью некоторого осязательного языка или магнетической интуиции, которая соответствует, может быть, чувствам или свойствам материи, нам совершенно неизвестным, — интуиции, местопребывание которой находится, возможно, в этих таинственных щупальцах, осязающих и понимающих тьму и состоящих, по вычислениям Чешайра, у работниц из двенадцати тысяч осязательных ворсинок и пяти тысяч обонятельных ямок. Способ, которым распространяется в улье какая-нибудь новость, добрая или дурная, привычная или сверхъестественная, показывает, что пчелы понимают друг друга не только относительно их обычных работ, но что и необыкновенное также находит имя и место в их языке: потеря или возвращение матки, падение сота, вторжение неприятеля, проникновение чужой царицы, приближение отряда грабителей, открытие сокровища и т.д. — каждое из этих событий вызывает столь различное положение и говор пчел, и они так характерны, что опытный пчеловод довольно легко угадывает, что происходит там, в тени, во взволнованной толпе.
Если вы хотите иметь более точное доказательство, понаблюдайте пчелу, которая найдет несколько капель меду, разлитых на подоконнике вашего окна или на углу вашего стола. Сначала она так жадно начнет насыщаться, что вы без малейшего усилия сможете отметить маленьким пятном краски ее щиток, не опасаясь оторвать ее от занятия. Но эта жадность только кажущаяся. Этот мед не проходит собственно в желудок или в то, что нужно было бы назвать ее личным желудком, — он остается в зобу, в первом желудке, который является, если можно так выразиться, «желудком общежития». Как только этот резервуар наполнен, пчела удалится, но не прямо и не легкомысленно, как сделала бы бабочка или муха. Наоборот, вы увидите, что она несколько мгновений летит, пятясь назад, внимательно облетает нишу вашего окна или вокруг вашего стола, с лицом, обращенным к вашей комнате. Она изучает место и закрепляет в своей памяти точное положение сокровища. Затем она возвращается в улей, выкладывает там свою добычу в одну из ячеек амбаров, чтобы через три или четыре минуты спустя возвратиться и забрать новый запас на ниспосланном Провидением подоконнике. Через каждые пять минут, до тех пор, пока будет мед, до самого вечера, если нужно, пчела непрерывно и без отдыха будет совершать целенаправленные путешествия от окна к улью и от улья к окну.
VIII
Я не хочу приукрашать истину, как делали многие, писавшие о пчелах. Наблюдения подобного рода только тогда представляют некоторый интерес, когда они всецело правдивы. Если бы я нашел, что пчелы неспособны дать себе отчет во внешних событиях, то мне кажется, что ввиду этого маленького разочарования мне доставило бы некоторое удовольствие констатировать лишний раз, что человек является единственным действительно разумным существом на земном шаре. И потом, дойдя в жизни до известной полосы, начинаешь испытывать больше радости, говоря вещи справедливые, но не поразительные. Здесь, как и во всех других обстоятельствах, надлежит держаться следующего положения: если совершенно голая истина кажется в настоящую минуту менее великой, менее благородной и менее интересной, чем вымышленное украшение ее, то виноваты в этом мы сами, так как мы еще не можем различить, какое она должна иметь отношение — всегда удивительное — к нашему существу, все еще неизвестному, и к законам вселенной; и в этом случае не истина должна быть увеличена и облагорожена, а наш разум.
Признаюсь поэтому, что отмеченные пчелы часто возвращаются одни. Нужно думать, что у них существуют те же различия характеров, что и у людей, и что между ними встречаются одни молчаливые, другие болтливые. Кто-то из присутствовавших на моих опытах утверждал, что многие пчелы, очевидно из эгоизма или тщеславия, не любили открывать источник своих богатств или не хотели разделить с кем-нибудь из своих подруг славу труда, который должен быть признан в улье поразительным. Вот довольно противные пороки, не имеющие того хорошего, честного, свежего духа, который свойственен дому тысячи сестер. Как бы то ни было, но часто случается также, что пчела, которой улыбнулась судьба, возвращается к меду в сопровождении двух или трех сотрудниц. Я знаю, что сэр Джон Леббок в приложении к своему труду «Ants, Bees and Wasps» — составил длинные и точные таблицы наблюдений, из которых можно заключить, что почти никогда другая пчела не следует за указчицей. Мне неизвестно, с каким видом пчел имел дело ученый-натуралист, или не были ли обстоятельства особенно неблагоприятными. Что касается меня, то, обращаясь к своим собственным тщательно составленным таблицам после того, как были приняты всевозможные предосторожности, чтобы пчелы не были привлечены непосредственно запахом меда, я вижу по ним, что в среднем четыре раза из десяти пчела приводила других.
Однажды мне даже довелось встретить необыкновенную маленькую итальянскую пчелу, щиток которой я пометил пятном голубой краски. Со второго своего путешествия она явилась с двумя из своих сестер. Я пленил последних, не беспокоя первой. Она улетела, потом возвратилась с тремя сообщницами, которых я тоже поймал, и так продолжалось до послеполудня, когда, сосчитав своих пленниц, я констатировал, что она сообщила новость восемнадцати пчелам.
В общем, если вы произведете те же опыты, то убедитесь, что если сообщение и не совершается регулярно, то оно, во всяком случае, делается часто. Эта способность так хорошо известна охотникам за пчелами в Америке, что они ею пользуются, когда бывает нужно отыскать пчелиное гнездо. «Они выбирают, — говорит М. Josiah Emery (цитированный Romanes’ом в „Intelligence des animaux“, т. I, c. 117), — для начала своих действий поле или лес, далеко отстоящий от всякой прирученной колонии пчел. Прибывши на место, они помечают несколько пчел, собирающих добычу на цветах; ловят их, заключают в коробку с медом и, когда те насытятся, выпускают их. Затем следует некоторое ожидание, продолжительность которого зависит от расстояния, на котором находится дерево с пчелами; наконец, при некотором терпении, охотник в конце концов всегда замечает своих пчел, которые возвращаются в сопровождении нескольких подруг. Он по-прежнему ловит их, доставляет им угощение и выпускает каждую в особом месте, стараясь заметить, какое они изберут направление; точка, куда, по-видимому, сходятся все направления, обозначает ему приблизительное положение гнезда».
IX
Вы заметите также в ваших опытах, что подруги, которые, по-видимому, повинуются условному знаку, указывающему удачу, не всегда прилетают вместе и что часто между отдельными прилетами бывает промежуток в несколько секунд. Следовательно, по поводу этих сообщений нужно себе поставить вопрос, разрешенный сэром Джоном Леббоком относительно муравьев.
Как прилетают к сокровищу, открытому первой пчелой, ее подруги? Летят ли они только за первой, или они могут быть посланы ею и найти его сами, следуя ее указаниям и сделанному ею описанию местности? Здесь, естественно, существует огромная разница в смысле объема разума и его работы. Ученый-англичанин с помощью сложного и остроумного аппарата из проходов, коридоров, наполненных водою рвов и переносных мостов, сумел установить, что в этом случае муравьи просто шли по следам вожатого-насекомого. Эти опыты возможны с муравьями, которых можно заставить проходить там, где это нужно, но для пчелы, имеющей крылья, открыты все пути. Значит, нужно было бы придумать какое-нибудь другое средство. Вот одно из тех, которыми я пользовался, и, хотя оно не принесло мне положительных результатов, я думаю, что если бы опыт был лучше организован и производился при более благоприятных обстоятельствах, он мог бы дать достаточно удовлетворительные ответы на вопросы.
Мой рабочий кабинет в деревне находится в верхнем этаже над довольно высоким нижним этажом. Кроме времени, когда цветут липы и каштаны, пчелы настолько не привыкли летать на этой высоте, что в течение целой недели перед опытом на столе был оставлен медовый сот с открытыми ячейками, и ни одна пчела не была привлечена его запахом и не навестила его. Тогда я взял в стеклянном улье, помещенном недалеко от дома, итальянскую пчелу. Я отнес ее в свой кабинет, положил ее на сот и пометил ее, пока она угощалась.
Насытившись, она улетела и возвратилась в улей; последовав за ней, я увидел, как она торопливо шла по поверхности толпы, опустила голову в одну ячейку, выложила мед и собралась уходить. Я подстерег и схватил ее, когда она появилась у летка. Я повторил этот опыт двадцать раз подряд, всегда с различными субъектами и устраняя каждый раз «приманенную» пчелу, для того, чтобы другие не могли лететь за ней по следу. Чтобы удобнее было это делать, я поместил у двери улья стеклянный ящик, разделенный подвижной перегородкой на два отделения. Если отмеченная пчела выходила одна, я просто брал ее в заключение, как в случае с первой, и отправлялся в свой кабинет ждать прибытия сборщиц, которым пчела могла сообщить новость. Если она выходила в сопровождении одной или двух других пчел, я удерживал ее пленницей в первом отделении ящика, таким образом отделяя ее от подруг; последних я отмечал другой краской и затем, освободив их, следил за ними глазами. Очевидно, что если бы им было сделано какое-нибудь сообщение, устное или магнетическое, в котором было бы дано описание местности, способ ориентироваться и т.д., то я должен был бы найти в своем кабинете известное число этих пчел, таким образом осведомленных. Я должен признаться, что видел прилетевшей только одну пчелу. Следовала ли она указаниям, полученным в улье, или это была чистая случайность? Наблюдение было недостаточно, но обстоятельства не позволяли мне его продолжить. Я освободил моих «приманенных» пчел, и скоро мой рабочий кабинет был наводнен жужжащей толпой, которой они сообщили своим привычным способом дорогу к сокровищу[7].
X
Ничего не заключая из этого несовершенного опыта, мы на основании многих других любопытных черт вынуждены допустить, что пчелы имеют между собой духовное общение, которое значительно превышает размеры простого «да» или «нет» или те элементарные отношения, которые определяются жестом или примером. Между прочим можно было бы указать на движущую работу улья гармонию, на удивительное разделение обязанностей и правильный круговорот, который там наблюдается. Например, я часто замечал, что сборщицы, которых я отметил утром, после полудня, если только не было слишком большого изобилия цветов, занимались обогревом и вентиляцией выводкового сота; или же я находил их в толпе, образующей эти таинственные усыпленные цепи, среди которых работают как пчелы, выделяющие воск, так и скульпторши. Я наблюдал также, как работницы, которых я видел собирающими цветочную пыль в течение одного или двух дней, не собирали ее потом и выходили исключительно на поиски медового сока, и наоборот.
Относительно разделения труда можно еще указать на то, что знаменитый французский пчеловод Жорж де Лайенс называет распределением пчел на медоносных растениях. «Каждый день с самого восхода солнца, как только возвратятся разведчицы зари, пробуждающийся улей узнает добрые вести земли: „Сегодня цветут липы, окаймляющие канал; белый клевер распустился в траве у дорог, дятлина сладкая и шалфей луговой скоро раскроются; лилии и резеда истекают пылью“. Живо! — надо организоваться, принять меры, распределить обязанности. Пять тысяч самых сильных отправляется к липам; три тысячи самых молодых займутся белым клевером. Вот эти вчера высасывали сок венчиков; сегодня, чтобы дать отдохнуть их языку и железкам зоба, они пойдут собирать красную пыль резеды, а те — желтую пыль больших лилий, — вы никогда не увидите, чтобы пчела собирала или смешивала цветочную пыль разного цвета или разного рода, и методическая сортировка в кладовых прекрасной ароматной муки по оттенкам и происхождению составляет одну из важнейших задач улья. Так распределяются повеления скрытым гением. Тотчас же работницы выходят длинными черными рядами, и каждая из них направляется прямо к своему делу». Кажется, говорит де Лайенс, что пчелы отлично осведомлены относительно местности, сравнительного богатства медом и расстояния всех растений в известном районе вокруг улья.
«Если тщательно отмечать различные направления, принимаемые сборщицами, и если пойти подробно наблюдать, как производят пчелы сбор на окрестных растениях, то можно заметить, что работницы распределяются по цветам пропорционально и одновременно: как по количеству растений одного рода, так и по их медвяным богатствам. Скажу больше: они каждый день определяют качество лучшей сахаристой жидкости, которую они могут найти.
Если, например, весною, после цветения ив, в период, когда в полях еще ничто не цветет, у пчел нет никаких других источников, кроме лесных цветов, то они деятельно посещают анемоны, медуницы, золотохворост и фиалки. Если через несколько дней зацветут в довольно большом количестве поля капусты или сурепицы, то можно заметить, как пчелы почти полностью покинут лесные растения, еще находящиеся в полном цвету, дабы посвятить себя посещениям капусты или сурепицы.
Каждый день они таким образом регулируют свое распределение по растениям, чтобы собрать наилучшую сахаристую жидкость в наиболее короткое время.
Следовательно, можно сказать, что колония пчел в своих трудах по сбору урожая точно так же, как и внутри улья, умеет установить рациональное распределение числа работниц, применяя все тот же принцип разделения труда».