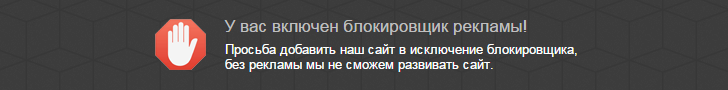XXIII
Оставим наконец монотонные равнины и геометрическую пустыню ячеек. Вот в конце концов сот уже начат и становится обитаемым. Хотя бесконечно малое прибавляется к бесконечно малому, без видимой надежды на окончание, и хотя наш глаз, видящий вообще так мало, смотрит, ничего не видя, — восковая постройка, которая не останавливается ни днем, ни ночью, подвигается с необыкновенной быстротой. Нетерпеливая царица уже много раз обошла постройки, белеющие в темноте, и теперь, когда закончены первые очертания жилищ, она завладевает ими со своей свитой хранительниц, советчиц или служанок, потому что трудно сказать, ведут ли ее или сопровождают, почитают ли ее или надзирают за ней. Прибыв на место, которое ей кажется благоприятным или которое указывается ей советчицами, она закругляет стену, сгибается и вводит конец своего длинного веретенообразного брюха в одну из девственных ячеек; в это время все внимательные маленькие головки телохранительниц из ее свиты, маленькие головки с огромными черными глазами, теснятся вокруг нее в возбуждении, поддерживают ей лапки, ласкают ее крылья и водят по ней своими лихорадочно движущимися щупальцами, как бы пытаясь внушить ей мужество, побудить ее и поздравить.
Место, где она находится, легко узнать по этому подобию звездчатой кокарды или овальной броши, в которой она составляет центральный топаз и которая довольно похожа на те внушительные броши, которые носили наши бабушки. Замечательно также (теперь представляется случай это отметить), что работницы всегда избегают поворачиваться спиной к царице. Как только она приблизится к какой-нибудь группе, все располагаются таким образом, чтобы неизменно обращать к ней глаза и щупальца, и идут перед ней, пятясь назад. Это знак уважения или, скорее, нежной заботливости, который очень постоянен и совсем обычен, каким бы невероятным он ни казался. Но возвратимся к нашей царице. Часто во время легкого спазма, сопровождающего, по-видимому, выход яйца, одна из ее дочерей обнимает ее и, чело к челу, уста к устам, как будто тихо говорит с ней. Она же довольно равнодушна к этим необузданным проявлениям, и, не торопясь, нисколько не волнуясь, вся отдается своей миссии, которая, по-видимому, является для нее скорее страстным наслаждением, чем трудом. Наконец через несколько секунд она со спокойствием выпрямляется, передвигается на один шаг, делает четверть оборота и прежде, чем ввести туда конец своего брюшка, погружает голову в соседнюю ячейку, чтобы удостовериться, что там все в порядке и что она не положит два яйца в одну и ту же ячейку; в это же время две или три пчелы из ее усердной свиты опрокидываются одна за другой в оставленную ячейку, чтобы посмотреть, выполнена ли задача, и окружить своими заботами или уложить на должное место маленькое синеватое яйцо, положенное туда царицей. С этой минуты и до первых осенних холодов последняя больше не останавливается, продолжая нести яйца в то время, когда ее кормят, продолжая нестись и во время сна, если только она вообще спит. С этих пор она представляет собою всепоглощающую власть будущего, которое заполняет все углы этого царства. Она шаг за шагом следует за несчастными работницами, которые доходят до изнеможения, строя колыбели, требуемые ее плодовитостью. Здесь, таким образом, приходится наблюдать соревнование двух могучих инстинктов, перипетии которых освещают несколько загадок улья — если не настолько, чтобы их разрешить, то хотя бы чтобы их показать.
Случается, например, что работницам удается несколько опередить царицу. Повинуясь своим заботам хороших хозяек, которые думают о запасах на черный день, они торопятся наполнить медом ячейки, выигранные у жадности рода. Но царица приближается; нужно, чтобы материальные блага отступили перед идеей природы, и обезумевшие работницы второпях перетаскивают мешающее сокровище.
Случается также, что они опережают на целый сот: тогда, не имея перед глазами той, которая представляет собою тиранию дней, которых никто не увидит, они этим пользуются, чтобы выстроить как можно скорее пояс крупных ячеек для трутней, строящихся гораздо легче и быстрее. Дойдя до этой неблагодарной полосы, царица с сожалением кладет там несколько яиц, проходит ее и направляется к ее краям требовать у работниц новых ячеек. Работницы повинуются, постепенно суживают ячейки, и преследование начинается снова, до тех пор, пока ненасытная матка, плодоносный и обожаемый бич, не возвратится от окраин улья к начальным ячейкам, покинутым к тому времени первым поколением, только что вылупившимся и которое скоро выйдет из мрака, где оно родилось, чтобы рассеяться по цветам окрестностей, чтобы населить солнечные лучи и оживить благодатное время, а потом, в свою очередь, пожертвовать собой поколению, уже заместившему его в колыбелях.
XXIV
А пчела-царица, — кому повинуется она? Пище, которую ей дают; потому что она не берет сама своей пищи; ее кормят, как ребенка, те самые работницы, которых изнуряет ее плодовитость. А эта пища, в свою очередь, отпускается ей работницами пропорционально изобилию цветов и добыче, приносимой посетительницами венчиков. Значит, и здесь, как всюду в этом мире, часть крута погружена во тьму; значит, здесь, как и везде, высочайшее повеление приходит извне от неизвестной могущественной власти, и пчелы подчиняются, как мы, безымянному господину колеса, которое, поворачиваясь, давит волю тех, кто его двигает.
Кто-то, кому я недавно показывал в одном из моих стеклянных ульев движение этого колеса, заметное так же хорошо, как большое колесо стенных часов, с удивлением смотрел на это обнаженное бесконечное треволнение сотов, безостановочное, загадочное и безумное трепетание кормилиц у выводковых камер, одушевленные мосты и лестницы, которые образуют работницы, выделывающие воск, все захватывающие спирали царицы, разнообразную и непрерывную деятельность толпы, безжалостное и бесполезное напряжение, чрезмерно ревностную суету, нигде неведомый сон, кроме колыбелей, уже подстерегаемых завтрашним трудом, и даже покой смерти, удаленный из этого убежища, где не допускаются ни больные, ни могилы. И как только прошло удивление, наблюдавший все эти вещи поспешил отвратить глаза оттуда, где можно было прочесть полный печали ужас.
В самом деле, в улье, ликующем, на первый взгляд, за этими сверкающими воспоминаниями прекрасных дней, которые наполняют его и превращают в ларец драгоценностей лета, за опьяненной суетой, которая связывает его с цветами, со стремящимися водами, с лазурью, с мирным изобилием всего, что представляет красоту и счастье, — в самом деле, за всеми этими внешними радостями скрывается самое печальное зрелище, какое только можно видеть, и мы сами, слепцы, смотрящие только затемненными глазами на этих невинных осужденных, — мы хорошо знаем, что не их одних готовы мы жалеть, что не их одних мы совсем не понимаем, — но жалкую форму великой силы, которая одушевляет и пожирает также и нас.
Да, если хотите, это печально, как печально все в природе, когда ее наблюдаешь вблизи. И так будет всегда, пока мы не узнаем ее тайны, если у нее есть тайна. Если мы когда-нибудь узнаем, что такой тайны нет или что она ужасна, тогда народятся новые обязанности, которые еще, быть может, не имеют имени. А покуда в ожидании этого пусть наше сердце, если хочет, повторяет: «это печально», но пусть наш разум довольствуется словами: «так оно есть». В данную минуту наш долг заключается в том, чтобы искать, нет ли чего-нибудь за этими печальными явлениями, а для этого нужно не отвращать от них взоры, а смотреть на них пристально и изучать их с таким же интересом и мужеством, как если бы это были радости. Справедливость требует, чтобы раньше, чем жаловаться, раньше, чем судить природу, мы прекратили ее допрашивать.
XXV
Мы видели, что работницы, как только их перестает чересчур теснить угрожающая плодовитость матки, торопятся строить ячейки для запасов, постройка которых более экономна, а вместительность больше. С другой стороны, мы также видели, что матка предпочитает класть яйца в маленькие ячейки и что она требует их непрерывно. Тем не менее, за недостатком этих ячеек и в ожидании, пока их ей предоставят, она примиряется с тем, чтобы класть яйца в широкие ячейки, находящиеся на ее пути.
Из них выйдут пчелы, самцы или трутни, хотя яйца во всем подобны тем, из которых родятся работницы, противоположно тому, что бывает при превращении работницы в царицу; здесь перемена определяется не формой и объемом ячейки, потому что из яйца, отложенного в большую ячейку и потом перенесенного в рабочую ячейку, выйдет более или менее атрофированный, но несомненный трутень (мне несколько раз удалось произвести такое перенесение, которое довольно затруднительно, вследствие микроскопической величины и чрезвычайной хрупкости яйца). Необходимо, следовательно, чтобы царица, кладя яйца, имела способность узнавать или определять пол положенного яйца и приспосабливать его к ячейке, над которой она садится. Редко случается, чтобы она ошиблась. Как она этого достигает? Каким образом в мириадах яиц, заключенных в ее двух яичниках, она отделяет самцов от самок, и каким образом спускаются они, по ее желанию, в единственный яйцевод?
Вот мы опять стоим перед одной из загадок улья, причем одной из самых непроницаемых. Известно, что девственная царица не бесплодна, но что она может класть только яйца самцов. Только после ее оплодотворения во время брачного полета она производит по своему выбору работниц или трутней. После брачного полета она окончательно, до самой своей смерти, становится обладательницей сперматозоидов, вырванных у ее несчастного возлюбленного. Эти сперматозоиды, число которых доктор Лейкарт определяет в двадцать пять миллионов, сохраняются живыми в особой железе, расположенной под яичниками, при входе в общий яйцевод, и называемой сперматек. Предполагают, что узость отверстий маленьких ячеек и необходимость согнуться и сесть известным образом, к которой вынуждает царицу форма этих ячеек, оказывает известное давление на железку со сперматозоидами, которые вследствие этого вытекают оттуда и оплодотворяют проходящее яйцо. Это давление не должно в таком случае осуществляться над большими ячейками, и тогда железка совсем не откроется. Другие, наоборот, придерживаются мнения, что царица действительно обладает мышцами, которые открывают и закрывают выход из железы во влагалище, причем эти мышцы чрезвычайно многочисленны, сильны и сложны. Я не собираюсь решать, которая из этих двух гипотез лучше, потому что чем дальше движешься, чем больше наблюдаешь, тем лучше видишь, что мы являемся всего лишь утопающими в океане природы, до сих пор очень мало известном, и тем лучше узнаешь, что из глубины внезапно ставшей прозрачной волны всегда готов всплыть факт, который в одно мгновение разрушает все, что мы считали известным. Тем не менее я должен признать, что склоняюсь ко второй гипотезе. Во-первых, опыты бордоского пчеловода Дрори показывают, что в том случае, если все большие ячейки удалены из улья, матка при наступлении времени класть яйца самцов не колеблясь кладет их в ячейки работниц; и, наоборот, она будет класть яйца работниц в ячейки самцов, если в ее распоряжении не оставили других.
Затем прекрасные наблюдения X. Фаба над Osmies, дикими и одинокими пчелами из семейства Gastrilegides, обоснованно доказывают, что не только Osmie заранее знает пол яйца, которое она снесет, но что еще этот пол произволен для матки, которая его определяет, смотря по пространству, находящемуся в ее распоряжении, «пространству, часто случайному и не изменяемому», и кладет в одном месте самца, а в другом — самку. Я не буду вдаваться в подробности опытов известного французского энтомолога — они слишком мелки и отвлекли бы нас слишком далеко от сути. Но, какова бы ни была принятая гипотеза, и та и другая объясняют очень хорошо, помимо всякого понимания будущего, склонность царицы класть яйца в ячейки работниц.
Вполне возможно, что эта мать-раба, которую мы склонны жалеть, есть не что иное, как большая любительница страстных наслаждений, что в соединении мужского и женского начала, происходящем в ее существе, она испытывает особое наслаждение и как бы напоминание опьянения брачного полета, единственного в ее жизни. И здесь природа, которая никогда не бывает так остроумна и так лукаво предусмотрительна и разнообразна, как в том случае, когда дело идет о сетях любви, — и здесь она позаботилась подкрепить наслаждением интересы рода. Но, в конце концов, нужно, чтобы мы поняли друг друга и не обманулись в этом объяснении. Приписать таким образом какую-нибудь идею природе и думать, что этого достаточно, значило бы бросить камень в одну из этих неизмеримых пропастей, которые встречаются на дне известных гротов, и воображать, что произведенный камнем шум падения ответит на все наши вопросы и откроет что-нибудь другое, кроме огромности бездны.
Когда повторяют: «Природа хочет это, организует это чудо, имеет эту цель», — это буквально означает, что маленькое проявление жизни поддерживается, между тем как мы им заняты, на огромной поверхности материи, которая нам кажется бездеятельной и которую мы называем, — очевидно несправедливо, — небытием или смертью. Стечение обстоятельств, не имевших ничего общего, поддержало это проявление, выделив его из тысячи других, быть может таких же интересных, таких же разумных, но которые не имели той же удачи и исчезли навсегда, не получив случая нас восхитить. Было бы дерзостью утверждать что-нибудь другое; а все остальное — наши размышления, наша упорная телеология, наши надежды и паше восхищение, это, в сущности, — неизвестное, которое мы сталкиваем с еще менее известным, чтобы произвести маленький шум, дающий нам понятие о высшей ступени того особого существования, которого мы можем достигнуть на этой самой поверхности, немой и непроницаемой, подобно тому, как пение соловья и полет кондора открывают им наивысшую ступень существования, свойственную их роду. Тем не менее, остается верным, что одной из наших наиболее ведущих к истине обязанностей является произведение этого маленького шума каждый раз, как представляется случай, не падая духом из-за того, что он, вероятно, бесполезен.
Часть IV. Молодые царицы
I
Оставим наш молодой улей, который будет расти, развиваться и свершать жизненный круговорот до полноты силы и счастья, и бросим последний взгляд на старую пчелиную обитель, дабы узнать, что происходит там после вылета из нее роя.
Смятение, вызванное вылетом роя, затихло; две трети недавних жителей обители покинули ее без мысли о возвращении, и злополучная обитель похожа на тело, из которого выпустили кровь. На ней лежит печать утомления, безмолвия, почти смерти. Но вот несколько тысяч оставшихся в обители верных ей пчел принимаются за работу, стараются заместить наилучшим образом отсутствующих, загладить все следы происшествия, привести в порядок избегнувшие опустошения запасы. Они летают к цветам, хлопочут о будущем, словом — верные своему долгу, исполняют определенное им непреклонной судьбой предназначение.
Но если сущее кажется мрачным, то все, куда только может проникнуть взор, дышит надеждой на будущее. Мы находимся в одном из тех легендарных немецких замков, стены которых построены из сосудов с душами еще не родившихся людей. Здесь еще не жизнь, но преддверие жизни. В закрытых колыбельках, расположенных среди бесконечных, чудно устроенных шестигранных ячеек, мириады белоснежных нимф со сложенными лапками и опущенными на грудь головками ожидают часа пробуждения их к жизни. Наблюдая погребенные в бесчисленных и почти прозрачных ячейках существа, как будто видишь перед собою погруженных в глубокую думу, покрытых седым инеем гномов или легионы дев, закутанных в складки савана и погребенных в шестигранных призмах, размноженных до бесконечности непреклонным в исполнении своего намерения геометром.
На всем пространстве, заключенном в перпендикулярных стенах мира, — мира, который растет, преобразуется, проникается самим собой, переменяет четыре или пять раз свое облачение и ткет во мраке собственный саван, машут крылышками и пляшут сотни пчел-работниц. Делают они это, по-видимому, для поддержания необходимой теплоты и для какой-то еще более таинственной цели, ибо в их пляске наблюдаются такие необычайные и методические движения, которые должны отвечать еще не объясненным, я полагаю, ни одним наблюдателем намерениям.
Через несколько дней крышечки этих мириад урн (в хорошем улье их бывает от шестидесяти до восьмидесяти тысяч) дают трещины, и в каждой из них обнаруживается существо с огромными черными глазами, с выступающими вперед щупальцами, которыми новорожденные уже осязают вокруг себя биение жизни, и деятельными челюстями, которыми они расширяют отверстие своей колыбели. В ту же минуту к новорожденным сбегаются няньки. Они помогают молодым пчелкам освободиться из их темниц, поддерживают их первые шаги, чистят, гладят и предлагают им на кончике своих языков первый мед новой жизни. Молодая пчела, которая только что явилась из другого мира, еще робка, слаба и бледна. Она напоминает своим внешним видом избежавшего могилы старичка; она подобна путнице, покрытой пушистой пылью тех неведомых стезей, которые ведут к бытию. Тем не менее она уже совершенна с головы до ног, — она знает сразу все, что ей знать надлежит, и, — подобно тем детям из народа, которым известно, так сказать, от рождения, что у них не будет времени ни на игры, ни на смех, — тут же направляется к еще закрытым ячейкам, и сразу же начинает бить крылышками и делать ритмические движения, дабы вызвать к жизни своих еще погребенных в ячейках сестер; она не задумывается при этом ни на секунду над разрешением изумительной загадки ее рода и ее назначения.
II
Однако ж от тягчайших работ молодая пчелка сначала свободна. Она показывается из улья только через восемь дней после рождения для совершения своего первого «очистительного полета». Тут наполняются воздухом ее трахеи, которые, раздуваясь, животворят весь организм пчелы и как бы венчают ее с воздушным пространством. После этого пчелка снова возвращается в улей, остается там еще с неделю и затем наносит вместе со своими сверстницами первый визит цветам. Ею овладевает особое волнение, которое на языке французских пчеловодов называется «soleil d’ortifice». Эти дети темного улья, дети общежития, сначала обнаруживают страх перед морем лазури, перед беспредельной бездной света. Осязая радость жизни, они в то же время полны тревоги. Переступивши порог, они останавливаются в нерешительности, возвращаются назад, выползают снова и так до двадцати раз. Поднявшись наконец ввысь, они парят в воздухе, не спуская глаз с родного дома; описавши несколько широких кругов, они, как бы под давлением раскаяния, внезапно устремляются обратно, и тут их тринадцать тысяч глазок допрашивают окружающий мир, отражают и запечатлевают сразу деревья, фонтан, решетку, лестницу, крыши и окна прилежащих здании. Это продолжается до тех пор, пока воздушный путь, по которому им надлежит возвратиться, не станет им известен так же твердо, как если б среди небесного эфира находилась дорожка, обставленная вехами из стальных дротиков.
Здесь пред нами новая тайна. Попытаемся допросить ее. Пусть безмолвствует она, подобно другим. Само ее безмолвие увеличит, по крайней мере несколькими, закутанными туманом, но обсемененными нашим желанием его раскутать, акрами, поле сознательно признаваемого нами за неведомое; такое признание составляет плодотворнейшую силу нашей психической деятельности. Каким образом пчелы находят на обратном пути свое, — иногда напрочь исчезающее из их поля зрения и часто скрытое за деревьями, — жилище, как отыскивают они входное отверстие улья, к которому они безошибочно направляют свой полет, когда оно составляет лишь неприметную точку в беспредельном пространстве? Чем руководствуется пчела, когда, будучи перенесена в коробке за два или за три километра от улья, она в чрезвычайно редких случаях не находит правильной дороги назад?
Видят ли они свои жилища сквозь скрывающие их преграды? Ориентируются ли они при помощи каких-либо примет или, может быть, обладают тем особенным и мало исследованным внешним чувством, существование которого допускается у ласточек, голубей и некоторых других существ и которое называют «чувством направления»? Опыты Фабра, Леббока и особенно Романеса[10] прочно установили факт отсутствия этого чувства у пчел. Но, с другой стороны, я неоднократно констатировал, что пчелы не обращают никакого внимания на цвет или форму улья. Они, по-видимому, более внимательны к общему виду площадки, на которой покоятся их домики, и к расположению летка и крылечка, по которым они до них добираются. Но это лишь аксессуар, и если во время отсутствия пчел, отправившихся за добычей, изменить полностью фасад их жилища, то, возвращаясь назад прямо из глубин пространства, они обнаруживают некоторое колебание только в момент прохождения через леток по незнакомому им крылечку. Их способ ориентироваться, насколько позволяют судить об этом опыты, основан, по-видимому, на в высшей степени мелких, но точных приметах. Они знают не улей, а окружающее его на три-четыре километра пространство и его положение по отношению к соседним предметам. Но это знание так чудесно, так математически точно и так глубоко запечатлено в их памяти, что если поставить улей на том же месте, но чуточку вправо или влево, то все пчелы-работницы, пробывшие пять зимних месяцев в темном подвале, со своего первого же вылета за цветочной добычей самым уверенным образом устремляются к тому пункту, где был леток в прошлом году, и уже ощупью находят его перемещенный вход. Можно подумать, что воздушное пространство точно сохраняло всю зиму следы их полета и что стези, по которым летали прилежные работницы, остались выгравированными на небе.
Если переставить улей, то многие из пчел не находят к нему дороги; однако ж этого не случится, если переставить его на большее расстояние и тем дать понять пчелам, что весь прошлогодний ландшафт, который они знали в совершенстве на три-четыре километра кругом, резко изменился. При небольшой перестановке улья того же результата можно достигнуть, заграждая вход в леток каким-нибудь предметом, например куском черепицы. Тогда пчелы замечают, что произошла какая-то перемена, что надо снова ориентироваться и брать для этого за точку отправления новый предмет.
III
Сделав эти замечания, возвратимся в заново населенную обитель, где непрестанно выходят из колыбелей массы новых жителей и сама субстанция стен которой находится как бы в движении. Однако этот город не имеет еще царицы. На одном из центральных сотов возвышаются семь или восемь причудливой формы сооружений, своими выступами и кругами напоминающих своеобразную картину, наблюдаемую на фотографических снимках Луны. Перед нами род шероховатых восковых капсул или наклоненных и герметически закрытых железок. По величине они равняются трем или четырем ячейкам рабочих пчел. Обычно они сгруппированы в одном и том же месте. Многочисленная, странно ажитированная и внимательная стража охраняет место, на котором лежит печать неописуемого очарования. Тут формируются будущие царицы (матки). В каждую из этих капсул еще до вылета роя заключено яйцо, идеально похожее на то, из которого выходит пчела-работница. Оно положено туда или самой царицей, или, что более вероятно, хотя и не вполне доказано, няньками, перенесшими туда яички из соседних колыбелек.
Три дня спустя из яичка образуется маленькая личинка, которой тут же оставляют самую отборную и обильную пищу. С этой минуты мы получаем возможность проследить постепенно все моменты приложения одного из тех до великолепия простых методов природы, которые мы увенчали бы, если бы дело касалось людей, августейшим именем Рока. Благодаря этому режиму маленькая личинка развивается исключительным образом, и ее физическая и духовная природа изменяются до такой степени, что кажется, будто она принадлежит от рождения к совершенно особой природе.
Вместо шести или семи недель ее жизнь продолжается от четырех до пяти лет. Ее брюшко становится вдвое длиннее, чем у остальных пчел, цвет тела светлее и золотистее, жало загнуто. Ее глаза состоят не из двенадцати-тринадцати тысяч глаз, как у других пчел, а всего из тысяч восьми-девяти. Размеры ее мозга меньше, но зато яичники чрезвычайно развиты, и сверх того она обладает особым органом, называемым «сперматеком», который ее делает как бы гермафродитом. У нее нет ни одного из орудий, необходимых для трудовой жизни: ни мешочков, выделяющих воск, ни щеточек, ни корзиночек для сбора цветочной пыли. Нет у нее и ни одной из тех привычек, ни одного из тех свойств, которые мы считаем врожденными у пчел. У нее нет жажды видеть солнце, потребности купаться в пространстве; она умрет, не посетив ни одного цветка. Ее жизнь пройдет во мраке, среди суеты пчелиного улья, в неустанных поисках колыбелек, которые ей надлежит населить. Зато только она знает волнения любви. Она не уверенна, придется ли ей увидеть в своей жизни дневной свет дважды, ибо отлет роя — явление не необходимое, — может быть, ей предстоит пустить в дело крылья всего один раз, когда она полетит навстречу к возлюбленному. Любопытно отметить, что столько органов, идей, желаний, привычек, словом, вся судьба ее, находятся не в капле семени, — это было бы явлением, присущим растениям, животным и человеку, — а в субстанции, нейтральной и недеятельной — в капле меда[11].
IV
Прошло уже около недели со времени отлета старой царицы. Царственные нимфы, покоящиеся в капсулах, не все одного и того же возраста, ибо последовательное их появление из ячеек после того, как вылетели из улья первый, второй и третий, а может быть, и четвертый рои, находится в интересах самих же пчел. В течение нескольких часов они постепенно утончают стенки самой зрелой капсулы, и вскоре молодая царица, содействовавшая со своей стороны собственному освобождению, прогрызая продолговатую покрышку изнутри, показывает головку, полувыходит, поддерживаемая сбежавшимися прислужницами, тут же начинающими ее чистить, гладить, ласкать. Наконец, она освобождается целиком и предпринимает первые шаги по своим владениям. Подобно новорожденным работницам, она в этот момент бледна, слаба, но через какие-нибудь четверть часа ее ножки крепнут и, уже испытывая беспокойство от того, что она здесь не одна, что ей еще предстоит завоевать свое царство, что претендентки на то же находятся скрытыми где-то в том же улье, она нервно обегает восковые стены в поисках соперниц. Но тут вмешивается мудрость, таинственные указания инстинкта, духа улья или коллективности рабочих пчел. Когда следишь сквозь стеклянный улей за течением совершающихся там событий, то поражаешься прежде всего отсутствием в деятельности пчел какой бы то ни было неуверенности, малейшего несогласия. Нет и следа разноречия или несогласия. Предустановленное единство пронизывает всю атмосферу города, и каждая пчела будто знает наперед, что думают все остальные. Между тем для них наступает один из серьезнейших моментов. Собственно говоря, это-то и есть самая важная минута в жизни пчел. Им приходится делать выбор между тремя или четырьмя выходами, отдаленные последствия которых полностью различны между собой; ничтожнейшее обстоятельство может сделать эти последствия гибельными. Им предстоит согласовать врожденную страсть и обязанность размножаться с сохранением основы их рода и его отпрысков. Иногда они ошибаются в выборе, выпуская один за другим три или четыре роя. Такое положение окончательно обессиливает обитель, и оставшиеся в ней пчелы, будучи слишком слабы, чтобы устроить собственными силами в короткий срок всю необходимую для жизни организацию, застигаются врасплох чуждым им климатом, столь непохожим на их родной, воспоминание о котором они хранят, невзирая ни на что, и погибают с наступлением зимы. Они становятся тогда жертвами так называемых «роевых горячек», являющимися, подобно обыкновенным горячкам, как бы реакцией против слишком большого напряжения жизни, — напряжения, которое выходит за пределы своей цели, замыкает круг и встречается со смертью.