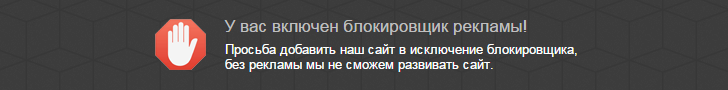II
Однако ж терпение пчел истощается гораздо скорее, чем терпение людское. В одно прекрасное утро давно ожидаемый приказ разносится по всему улью, и мирные работницы превращаются в грозных судей и палачей. Кто отдает приказ — неизвестно, но исходит он внезапно из холодного и рассудочного негодования работниц; согласно же гению единодушия в республике, приказ приводится в исполнение немедленно после его произнесения. Часть населения прекращает сбор меда, чтобы посвятить этот день делу правосудия. Толстые бездельники, висящие гроздями на медовых стенках улья, беспечно спят, но целая армия разгневанных дев грубо пробуждает их от сна. Доверчивые, ничего не подозревающие самцы просыпаются, не веря своим глазам; их удивление едва пробивается сквозь их лень, как луч луны сквозь воды болота. Им кажется, что они сделались жертвами какой-нибудь ошибки, озираются кругом в недоумении, и доминирующая потребность всего их существования, проникая в их тупые мозги, толкает их к медовым чанам за утешением. Но уже кончились для них сладкие майские дни, прошло время душистого липового цвета, нет больше постоянных ароматов шалфея, богородской травы, клевера и майорана. Вместо прежнего свободного доступа к гостеприимным кладовым, равнодушно открывавшим перед ними двери к сладким и обильным запасам, они теперь встречают перед собою колющий лес из отравленных жал. Изменилась счастливая для них атмосфера обители. Вместо приятного аромата меда теперь распространился какой-то едкий запах яда, капельки которого сверкают на концах жал и свидетельствуют о повсюду разлитой по отношению к трутням ненависти и мщении. И раньше, чем самцы успевают сообразить, что произошел неслыханный переворот в их роскошной жизни, нарушение всех счастливых для них законов обители, на каждого из перепуганных паразитов набрасываются по несколько слуг правосудия; они стараются подрезать трутням крылья, перепилить ножку, соединяющую их брюшко с грудью, отрезать трепещущие щупальца, вырвать лапки и найти щель между кольцами его лат, чтобы вонзить туда свой меч. Огромные, невооруженные, лишенные жала существа и не помышляют о сопротивлении; они стараются ускользнуть от врагов или подставить спину сыплющимся на них ударам; опрокинутые же на спину, они неуклюже отшвыривают в разные стороны своих неумолимых, неотвязно приставших к ним врагов, или, кружась, тащат за собою в диком вихре всю толпу врагов, пока не истощаются их последние силы. Через очень короткое время они приходят в такое жалкое состояние, что будь на месте пчел люди, то немедленно заговорила бы о пощаде всегда тесно уживающаяся в нашем сердце рядом со справедливостью жалость — но в сердце черствых, признающих только глубокий, сухой закон природы, работниц нет места ни для жалости, ни для пощады. Крылья несчастных уже изорваны, их лапки вырваны, щупальца уничтожены, и их великолепные черные глаза, зеркало пышных цветов, отражавшие синеву лазури и невинную гордость лета, теперь заволакиваются страданием и отражают одну лишь горечь и отчаяние смерти. Одни погибают тут же от своих ран, и их тела немедленно относятся двумя-тремя палачами на отдаленные кладбища; другим, раненным не столь тяжело, удается забиться массою в какой-нибудь угол, но тогда беспощадная стража блокирует их там, пока они не погибнут с голоду. Многие успевают добраться до выхода и исчезнуть в пространстве, увлекая за собой своих противников; но к вечеру, томимые голодом и холодом, они возвращаются назад и толпятся, умоляя о крове, у входа в улей; однако и на этот раз они встречаются с неумолимой стражей. На следующий день работницы первым делом убирают с порога улья трупы бесполезных великанов, и память о праздном племени исчезает из обители до следующей весны.
III
Нередко случается, что избиение происходит в один и тот же день во многих ульях пчельника. Сигнал к избиению подают наиболее богатые и наилучше организованные ульи. Несколько дней спустя следуют их примеру и менее благоденствующие республики. Только самые бедные и слабые поселения, у которых царица слишком стара и почти бесплодна, сохраняют самцов в надежде на оплодотворение ими могущей еще родиться новой царицы до наступления зимы. Это неизбежно заканчивается катастрофой. Все племя — царица, трутни и работницы, — составляет тогда одну тесно сцепившуюся голодную массу, которая и погибает во тьме улья еще до выпадения первого снега.
После истребления самцов в более населенных и более благополучных ульях снова начинается работа, хотя былое усердие постепенно ослабевает, ибо нектара в цветах становится все меньше и меньше. Время великих торжеств и кровавых драм уже прошло. Славный улей жарких июльских дней, это общество, состоящее из мириад живых душ, этот благородный монстр, вечно бодрствующий и вскормленный одними лишь цветами и росой, постепенно засыпает, и его теплое, испускающее нежный аромат дыхание замедляется и застывает. Однако по-прежнему продолжается для пополнения запасов сбор осеннего меда, который и складывается в кладовые; последние резервуары запечатываются затем безукоризненно белой восковой печатью. Постройка прекращается; число рождении уменьшается, число же смертей увеличивается; ночи удлиняются; дни сокращаются. Дожди и суровые ветры, утренние туманы и козни слишком быстро наступающего мрака уничтожают сотни и сотни работниц. Все маленькое население улья, которому солнце так же необходимо, как и кузнечикам Аттики, начинает чувствовать грозное нашествие холодной зимы.
Человек еще раньше успел взять свою часть сбора. Каждый хороший улей дал ему от восьмидесяти до ста литров меда; есть исключительные ульи, которые дают иногда до двухсот литров: они представляют собой как бы огромное пространство света, в котором растворились целые поля цветов, посещенных пчелами по тысяче раз в день. Теперь человеку остается бросить последний взгляд на цепенеющие колонии. У более богатых он отбирает ненужные им сокровища с тем, чтобы раздать их несправедливо обойденным счастьем труженикам. Он закрывает для сохранения теплоты их жилища, полупритворяет дверцы, уносит лишние рамы и предоставляет пчел их длинной зимней спячке. Они собираются в центре улья в кучу, съеживаются и цепляются за соты, откуда в студеную зимнюю пору будет сочиться к ним претворенная субстанция лета. Окруженная своей гвардией царица располагается посредине. Первый ряд работниц цепляется за запечатанные ячейки, второй помещается над ним, прикрываясь, в свою очередь, третьим, и так далее до последнего ряда, который и образует собственно покров. Когда к пчелам верхнего ряда начинает подкрадываться холод, они врезаются в массу, а остальные поочередно их замещают. Повисшая в пространстве гроздь похожа на рыжеватый теплый шар, окруженный медовыми стенками. Этот шар по мере того, как соседние ячейки пустеют, то поднимается выше, то спускается, то приближается, то удаляется от них незримым образом; в противоположность тому, как обыкновенно думают, зимняя жизнь пчел не останавливается, а лишь замедляется[13]. Посредством согласного помахивания крыльев этих маленьких переживших летний зной сестер, то ускоренного, то замедленного, сообразно с изменяющейся внешней погодой, здесь поддерживается ровная температура весеннего дня. Эта таинственная весна изливается теперь из дивного меда, который сам есть не что иное, как луч претворенного раньше солнечного тепла, возвращающийся к своему первоначальному виду. Он циркулирует здесь подобно благодетельной крови. Уцепившиеся за полные ячейки пчелы передают его своим соседкам, а те, в свою очередь, передают его дальше. Таким образом передвигается он все дальше и дальше, пока не достигнет пределов массы. Единая мысль и единая судьба связывают здесь в нераздельное целое тысячи сердец. Исходящий из меда луч заменяет солнце и цветы до того момента, пока его старший брат, посланный уже действительным солнцем наступающей весны, не проникнет в улей своим первым теплым взглядом и пока распустившиеся снова фиалки и анемоны не начнут будить работниц; им скажут тут, что лазурь снова заняла в мире подобающее ей место и что непрерывный круг, соединяющий жизнь со смертью, обернулся вокруг самого себя еще раз и снова ожил.
Часть VII. Прогресс рода
I
Мы уже распростились с оцепеневшим в тишине зимы ульем, но, прежде чем распроститься с книгой, я хочу опровергнуть одно возражение, выдвигаемое нередко лицами, перед которыми раскрывают удивительное государственное устройство и индустрию пчел. «Да, — бормочут они про себя, — все это удивительно, но страшно неподвижно. Вот, протекли уже тысячелетия с тех пор, как пчелы живут и управляются замечательными законами, но, несмотря на протекшие века, законы эти остались все те же. В течение целых тысячелетий пчелы строят свои поразительные соты, к которым ничего нельзя прибавить или убавить и в которых соединились в равной степени совершенства науки химика, геометра, архитектора и инженера; однако ж эти соты совершенно схожи с найденными в саркофагах и изображенными на камнях и египетских папирусах. Укажите нам хотя бы на один факт, который свидетельствовал бы о малейшем прогрессе в жизни пчел: познакомьте нас хотя бы с малейшим нововведением или приведите пример изменения ими их вековой рутины хоть на одну йоту, — тогда мы согласимся и признаем за пчелами не только превосходный интеллект, но и интеллект, приближающийся с полным основанием к интеллекту человеческому; тогда и мы будем надеяться, что их ожидает участь гораздо выше той, которая предназначена бессознательной и подчиненной материи».
Так рассуждают не только профаны; заслуженные энтомологи, вроде Кирби и Спенса, употребляли тот же способ рассуждения для отрицания какого бы то ни было интеллекта у пчел; они признают за ними лишь свойство, заключенное в узкие рамки инстинкта, хотя и поразительного, но все же неподвижного. «Если вы покажете нам хоть один случай, где под давлением обстоятельств пчелам пришла бы в голову мысль заменить, например, воск и пчелиную смазку глиною или известью, тогда мы согласимся, что они способны мыслить».
Этот способ рассуждения, который Романее называет «the question begging argument» и который можно было бы назвать еще «ненасытимым аргументом», очень опасен и, примененный к человеку, завел бы нас слишком далеко. Вникнув в него хорошенько, мы видим, что он исходит из того «простого здравого смысла», который часто приводит к большой беде и, опираясь на который, возражали Галилею: «Земля не вертится, ибо мы видим, как движется солнце по небосклону, как оно восходит каждое утро и как заходит по вечерам; ничто не может быть убедительнее очевидности». Здравый смысл в глубине нашего разума нужен безусловно, но лишь тогда, когда высшая бдительность руководит им и напоминает ему вовремя о его бесконечном несовершенстве; если же это условие отсутствует, то здравый смысл является лишь рутиной слабых сторон нашего интеллекта. Однако ж на это возражение Кирби и Спенса пчелы сами дали ответ. Едва это возражение было сформулировано, как другой естествоиспытатель, Андрю Найт, сделав замазку из воска и скипидара для обмазывания больных деревьев, заметил, что пчелы совершенно перестали собирать пчелиную смазку и начали употреблять неизвестное им дотоле вещество; заметив, что его много около их жилища, пчелы испробовали его и, оценив его свойства, пустили его в дело.
Наконец, половина искусства и науки пчеловодного дела в том и заключается, чтобы дать пищу духу инициативы пчелы и открыть пред ее интеллектом возможность делать настоящие открытия и изобретения. Так, когда на цветах бывает мало цветеня, то в целях содействия выкармливанию личинок и нимф, поглощающих его неимоверное количество, пчеловод рассыпает невдалеке от улья муку. А ведь в своем первобытном состоянии, в дебрях своих родных лесов или в долинах Азии, где, по всей вероятности, они появились впервые на свет Божий еще в третичный период нашей Земли, этого-то вещества пчелам видеть не приходилось. Тем не менее, если суметь «прикормить» нескольких пчел, заставив их сесть на рассыпанную муку, то они начинают ее ощупывать и пробовать; убедившись, что ее свойства близко напоминают свойства цветеня, они возвращаются назад в улей и сообщают о своей находке. Вскоре сборщицы слетаются массами к неожиданному и непостижимому запасу пищи, которая в их наследственном воспоминании должна быть нераздельной с цветочной чашечкой, одаривавшей в течение многих веков своих гостей богатым и обильным угощением.
II
Не прошло и ста лет с тех пор, как работы Губера положили начало серьезному изучению жизни пчел и открытию первых важных истин, давших возможность с успехом наблюдать за этими существами, и истекло чуть более пятидесяти лет с той поры как, благодаря изобретению подвижных рам Дзиерзона и Лангетрота, стало возможно рациональное и практическое пчеловодство, улей перестал быть непроницаемым замком, где все происходившее в нем оставалось для нас тайной и куда мы могли проникнуть только после того, как смерть налагала на него свою печать. Наконец, не прошло и пятидесяти лет, как усовершенствования микроскопа и лаборатории энтомолога дали возможность точно раскрыть строение главных органов работницы, царицы и трутня, бывших до сих пор для всех тайною. Удивительно ли после этого, что наше знание столь же неудовлетворительно, как и наш опыт? Жизнь пчел исчисляется тысячелетиями, между тем как наши наблюдения над ними не превышают каких-нибудь пятидесяти-шестидесяти лет. Даже если бы и было доказано, что в улье не произошло никаких перемен с тех пор, как мы проникли в него, то все же можем ли мы заключить из этого с полным основанием, что в нем ничего не изменялось и до этого времени? Разве мы не знаем, что в эволюции вида век значит так же мало, как капля дождя в пучине реки, и что над жизнью универсальной материи тысячелетия проносятся так же быстро, как годы над историей какого-нибудь народа.
III
Однако нет оснований предполагать, что ничто не изменилось в обычаях и нравах пчел; наоборот, если их рассматривать без предвзятой мысли и не выходя из узкой сферы, освещенной нашим опытом, мы увидим очень резкие изменения. А сколько еще таких изменений, которые ускользнули от нашего взора! Если бы существо, приблизительно в полтораста раз выше нас и около семи тысяч раз тяжелее нас (это отношения нашего роста и веса к росту и весу скромной сборщицы меда), не понимающее нашего языка и одаренное чувствами, совершенно отличными от наших, вздумало бы проводить наблюдения над нами, то, пожалуй, оно составило бы себе представления о многих интересных материальных превращениях, имевших место за последние две трети нашего столетия, но никоим образом не смогло бы разобраться в нашей нравственной, социальной, религиозной, политической и экономической эволюции.
Самая вероятная из всех научных гипотез дает нам возможность поставить нашу домашнюю пчелу в связь с огромным семейством Apiens, из которого происходят, по всей вероятности, ее предки и которое охватывает собой всех диких пчел[14].
Мы столкнемся тогда с физиологическими, социальными, экономическими, индустриальными и архитектурными переменами в еще большей степени, чем при эволюции человеческого рода; но пока будем держаться только нашей домашней пчелы в строгом смысле слова. Среди них насчитывают около шестнадцати довольно резко очерченных видов. В сущности, говорим ли мы об Apis Dorsata, самой крупной из всех известных нам пчел, или об Apis Florea, самой маленькой из них, — это всегда одно и то же насекомое, но подвергшееся большим или меньшим изменениям, в зависимости от климата и обстоятельств, в которых ему пришлось жить. Все эти виды отличаются друг от друга не более, чем англичанин отличается от испанца или японец — от европейца. Ограничиваясь, таким образом, этими предварительными замечаниями, мы будем говорить лишь о том, что можем видеть в данное время собственными глазами без содействия каких бы то ни было веских и правдоподобных гипотез. Мы не станем останавливаться на всех тех фактах, которые можно было бы привести в подтверждение нашей мысли. Из всех этих фактов мы перечислим вкратце лишь самые выдающиеся.
IV
Прежде всего укажем на самое важное и самое радикальное изменение, которое стоило бы людям прямо-таки неимоверных трудов, — это внешняя защита общества. Пчелы не живут уже, как мы, в городах, находящихся под открытым небом и подвергающихся всем случайностям погоды. Их города защищены со всех сторон непроницаемым покровом. Однако ж в естественном состоянии, под прекрасным небом их далекой родины было иначе; следовательно, если бы пчелы слушались только своего инстинкта, они и теперь строили бы свои соты под открытым небом. В Индии Apis Dorsata не ищет настойчиво дуплистых деревьев и пещер в скалах для своих гнезд; рой ютится в пазу ветвей; сот удлиняется; царица кладет яйца; запасы пищи увеличиваются, — все это происходит беспрепятственно, не имея иной защиты от непогоды, кроме тел самих пчел. Не раз наблюдались случаи, когда наша северная пчела, введенная в заблуждение слишком теплым летом и руководимая только инстинктом, тоже начинала строить свои соты на просторе под сенью какого-нибудь куста[15].
Эта, по-видимому, врожденная привычка жить на просторе влечет за собою гибельные последствия для пчел даже в Индии.
Масса сил отвлекается от работы исключительно на поддержание необходимой температуры вокруг пчел, занятых восковыми постройками и выведением потомства; в результате Apis Dorsata никогда не успевает построить больше одного сота, тогда как малейшая защита дает ей возможность построить их четыре-пять и более, и этим самым увеличивает как количество населения колонии, так и его благосостояние. И действительно, мы видим, что теперь все виды пчел, — как холодных, так и умеренных поясов — почти полностью оставили эту привычку. Очевидно, закон естественного отбора санкционировал сознательную инициативу пчелы, сохраняя от суровой зимы лишь самые сильные и благоустроенные ульи; то, что было раньше явлением, идущим вразрез с инстинктом, делалось мало-помалу инстинктивной привычкой. Отказываясь от лучезарного и радостного солнечного света, ради темноты дупла и пещеры, пчелы, безусловно, следовали внушениям разумной, основанной на наблюдениях, опытах и рассуждениях мысли. В целом можно сказать, что использование закрытых помещений пчелами было для них не менее важным изобретением, чем изобретение огня для человеческого рода.
V
Кроме этого серьезного изобретения, — которое, оставаясь старым и наследственным, является не менее жизненным и ныне, — мы находим целый ряд менее важных, бесконечно разнообразных, указывающих на то, что экономика и даже политический строй улья не остаются чем-то постоянным, неизменным. Мы недавно говорили о сметливости пчел при замене ими цветочной пыли мукой и пчелиной смазки искусственным цементом. Мы видели также, с каким искусством они устраивают по своему вкусу случайное жилье, подчас совсем не соответствующее их потребностям, куда их загнали обстоятельства, и с какой поразительной ловкостью и проворством они пускают в дело куски искусственных восковых сот. Использование пчелами этого удачного, хотя не вполне еще совершенного, изобретения человека является поистине чудесным. Они как бы поняли человека с полуслова. Представьте себе, что с незапамятных времен мы строили бы свои города не из камня, извести и кирпича, но из вещества, находящегося внутри нас самих и с трудом выделяемого особыми, предназначенными для того органами. Представьте, что в один прекрасный день незнакомый великан переносит нас в какой-то сказочный город. Мы узнаем, что вещество, из которого построен город, — то же самое, что выделяли мы из собственного тела, но что все остальное представляется нам сплошным хаосом, в котором сама логика становится не логичной, а как бы ограниченной и искаженной. Мы совершенно растерялись бы в такой обстановке. Город создан по нашему плану; мы находим там все, к чему привыкли, но в перетасованном и сдавленном какою-то предвечной силой, остановившей развитие и помешавшей росту города, виде.
Дома, которые должны были бы иметь четыре-пять метров вышины, представляют собой лишь небольшие возвышения, которые можно закрыть двумя руками. Тысячи стен отмечены знаками, указывающими одновременно на их контур и на вещество, из которого они построены. Но надо еще поправить серьезные неправильности, засыпать пропасти, привести все в гармоническое сочетание и укрепить шаткие места. Дело неожиданное, трудное и опасное. Начало ему было положено верховным разумом, который сумел предвидеть большинство наших желаний, но именно по причине своей скромности создал все лишь в грубом виде. Теперь речь идет о том, чтобы разобраться во всем нам предоставленном, извлечь пользу из самых неважных намерений сверхъестественного благодетеля и построить за несколько дней то, на что обыкновенно убиваются годы, отказаться от органических своих привычек и перевернуть вверх дном всю систему работ. Конечно, человеку не пришлось бы слишком напрягать свое внимание, дабы разрешить представившиеся проблемы и не потерять ничего от подобного вмешательства в его жизнь чудесного провидения. Такова, приблизительно, картина того, что происходит в современном пчелином улье[16].
VI
Как я уже сказал, политический строй пчел, по всей вероятности, подвергается изменению, хотя этот вопрос остается самым невыясненным, ибо его крайне трудно проверить. Я не буду останавливаться на разнообразных нюансах их обращения с царицами, на законах роения, которые у каждого отдельного роя различны и, по-видимому, передаются от одного поколения другому и т. п. Но рядом с этими не вполне еще выясненными фактами существуют и другие, точные, определенные и постоянные. Они доказывают, что не все роды домашней пчелы дошли до одинаковой степени политического развития; у некоторых из них общественный разум развивается, так сказать, ощупью и как бы ищет нового разрешения политической проблемы. Сирийская пчела, например, выводит обычно около ста двадцати цариц, а часто и того больше, тогда как наша Apis Mellifica выведет их не более десяти-двенадцати. Чешайр рассказывает об одном, впрочем, вовсе не исключительном улье, где нашли двадцать одну царицу умерщвленной и девяносто живых на свободе. В этом факте усматривается пример странной социальной эволюции, которую было бы интересно исследовать поглубже. Добавим, что в выведении цариц кипрская пчела очень приближается к сирийской. Не возвращение ли это, хотя и очень далекое, к олигархическому образу правления от монархического или к сложному матриархату от простого? Близкие родственницы египетской и итальянской пчел, пчелы сирийская и кипрская, были, по всей вероятности, первыми из тех, кого удалось одомашнить человеку.
Наконец, существует еще одно наблюдение, которое доказывает нам с полною очевидностью, что нравы пчел и предусмотрительная организация улья не являются последствием лишь только врожденного, механически действовавшего во все века и во всех странах импульса; руководящий маленькой республикой разум умеет считаться со встречающимися на его пути новыми препятствиями, подчиняться им или подчинять их себе точно так же, как он умел бороться с препятствиями старыми. Перевезенная в Австралию или Калифорнию наша черная пчелка полностью изменяет там свои привычки. После двух— или трехлетнего пребывания в этих странах, убедившись, что лето там не прекращается, что цветы никогда не отказывают им в радушном угощении, пчелы живут одним лишь настоящим и ограничивают сбор меда и пыли до количества, необходимого для дневного потребления. Здесь новый, основанный на разуме, опыт торжествует над унаследованными привычками, и пчела не делает больше запасов на зиму[17]. Активность пчел в этом случае можно поддержать только постепенным отбиранием у них плодов их трудов.
VII
Таковы факты, которые мы можем наблюдать собственными глазами. Необходимо согласиться, что некоторые из них своей точностью и очевидностью в состоянии поколебать мнение тех, кто полагает, что, за исключением разума человечества в его настоящем и будущем, всякий другой интеллект неподвижен и лишен развития.
Но если допустить на одну минуту верность гипотезы трансформизма, то поле нашего зрения расширяется, и величественный, хотя и сомнительный, свет падает и на наши собственные судьбы. Для внимательного наблюдателя трудно не заметить присутствия в природе воли, стремящейся возвысить некоторую часть материи до более утонченного и, может быть, лучшего состояния, напитать мало-помалу эту материю таинственной субстанцией, называемой сначала жизнью, потом инстинктом, а еще позже — разумом. Для какой-то неведомой нами цели воля эта стремится упрочить жизнь, организовать ее, облегчить существование всему живому. Утверждать это с полной уверенностью нельзя; однако существует масса фактов, заставляющих думать, что если бы существовала какая-нибудь возможность подвергнуть исчислению количество трансформированной таким образом материи с самого начала жизни на Земле, то мы увидели бы, что количество это непрестанно возрастает.
Повторяю: высказанная мысль не имеет веских оснований, но она является единственной, проливающей хоть какой-нибудь свет на ту силу, которая руководит нашей жизнью. Но даже этого уже много для нашего мира, где наша первая обязанность — доверие к жизни, даже тогда, когда мы не можем открыть в ней никакой ободряющей нас ясности; это должно продолжаться до тех пор, пока не будет доказано противное.
Я знаю все то, что можно возразить против теории трансформизма. Ее многочисленные доказательства и веские аргументы не приводят, строго говоря, к полному убеждению в ее истинности. Не нужно никогда вверяться без оглядки текущим истинам эпохи.
Быть может, через сто лет многие места проникнутых этой идеей современных нам книг покажутся устаревшими, как кажутся нам устаревшими сочинения философов XVIII века, исходившие из мысли о слишком совершенном и не существующем в действительности человеке, или произведения XVII века, смягчавшего идею грубого и мелкого божества католической традиции, искаженной обильным количеством суетности и лжи.
Тем не менее за невозможностью знать истину следует принимать гипотезу, которая с того момента, как случаю угодно было произвести человека на свет, проникает наиболее властным образом человеческое сознание.
Многое свидетельствует о том, что она ложна; но, пока верят в ее истинность, — она полезна, ибо поддерживает бодрость духа и побуждает к новым исследованиям. С первого взгляда может показаться, что было бы лучше вместо всех этих замысловатых предположений объявить во всеуслышание глубокую истину о нашем полном неведении. Но эта истина была бы полезна только в том случае, если бы было доказано, что мы и впредь ничего не узнаем.
До того времени мы находились бы в состоянии такого застоя, который хуже самых ложных иллюзий. Мы созданы таким образом, что, исходя из заблуждений, можем достигнуть наивысшего увлечения. В конце концов, и тем немногим, что мы знаем, мы обязаны лишь гипотезам, всегда случайным, часто нелепым и по большей части менее осмотрительным, чем гипотезы современные. Если даже они и были безрассудны, то все же они поддержали дух исследования. Какое дело проезжему путнику, зашедшему отдохнуть и погреться в гостиницу, до того, что хозяин ее стар и слеп? Если он поддерживает огонь, то это все, что от него требуется. И благо нам будет, если мы сумеем передать дальше не уменьшающееся, а увеличивающееся пламя исследования; ничто не может так содействовать его развитию, как гипотеза трансформизма: она заставляет нас отнестись с большей строгостью и большей страстью ко всему существующему в мире, в его недрах, в глубине морской и в шири небесной. Чем можем мы ее заменить и что ей противопоставить? Не торжественное ли признание ученого невежества, познающего самого себя, но обыкновенно бездеятельного, препятствующего развитию человеческой любознательности, т.е. качества, еще более необходимого человеку, чем сама мудрость, или гипотезу о постоянстве видов, либо о божественном сотворении мира? Но эти гипотезы еще менее доказуемы, чем наша. Они устраняют навсегда наиболее живые стороны проблемы и делают ее неразрешимой, ибо запрещают вопрошать.